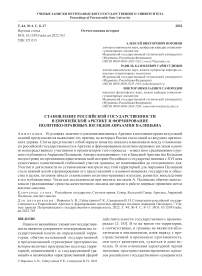Становление российской государственности в Европейской Арктике и формирование политико-правовых взглядов Авраамия Палицына
Автор: Воронин Алексей Викторович, Гайнутдинов Равиль Камилевич, Самородов Виктор Николаевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
В условиях заметного усиления внимания к Арктике в настоящее время актуальной задачей представляется выявление тех причин, по которым Россия стала одной из ведущих арктических держав. Статья представляет собой первую попытку показать взаимосвязи между становлением российской государственности в Арктике и формированием политико-правовых взглядов одного из непосредственных участников и организаторов этого процесса - известного средневекового русского публициста Авраамия Палицына. Авторы подчеркивают, что в Западной Арктике (на Кольском полуострове) на протяжении практически всей истории Российского государства начиная с XVI века существовал единственный стабильный участок границы, не изменившийся до сегодняшнего дня. Участие в деятельности по установлению контроля над этой территорией для Авраамия Палицына стало важной вехой в формировании его представлений о взаимоотношениях государства и общества в целом, положив начало становлению политико-правовых взглядов, развитых впоследствии в его публицистике. Тогда как исследователи при анализе взглядов А. Палицына обычно использовали традиционные средства качественного анализа авторами в работе впервые применен метод контент-анализа.
Российское государство, смутное время, север, кольский север, арктика, авраамий палицын, контент-анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/147237959
IDR: 147237959 | УДК: 321.013 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.763
Текст научной статьи Становление российской государственности в Европейской Арктике и формирование политико-правовых взглядов Авраамия Палицына
Одним из важнейших элементов государственности является суверенитет или верховенство государственной власти на определенной территории, обычно называемой государственной и представляющей «трехмерное пространство, которое включает пространство под и над территорией, ограниченной т. н. государственной границей» и являющейся «пространственной сферой
действительности государственного правопорядка» [2: 353]. В то же время эти территории, а соответственно, и границы не являются абсолютными и неизменными, имея наряду с пространственной и временную протяженность, они могут расширяться, сужаться и даже исчезать. В этом отношении характерной чертой эволюции пространственно-временных пределов российского государственного суверенитета на протяжении его истории является их крайне высокая степень подвижности практически на всем периметре. Начиная с XVI века, когда Российское государство приобрело вид более или менее близкий к современному (Древнюю Русь IX–XV веков следует, с нашей точки зрения, рассматривать как период предыстории, становления Российского государства), оно неоднократно переживало как периоды резкого расширения, так и не менее резкого сужения территории своей юрисдикции, не говоря уже о более частных, хотя при этом весьма значительных перемещениях границ. Едва ли не единственным исключением здесь выглядит небольшой участок границы, проходящий по западноарктической территории – Кольскому полуострову (Мурману), который окончательно сформировался в XVI веке и практически не изменился вплоть до сегодняшнего дня1. И это при том, что на данном направлении сложилась вполне конкурентная международная ситуация: в разное время (в разных формах и с различной силой давления) несколько государственных образований (оказывавшихся между собой в разных политических сочетаниях) претендовали либо на часть, либо на весь Кольский полуостров – Норвегия, Дания, Швеция.
Несомненно, в силу очевидной периферийно-сти территории с незначительными природными ресурсами, немногочисленным населением и экстремальными арктическими условиями существования человека эти государства выделяли сравнительно небольшие силы для установления здесь своего контроля. Но, вероятно, главным фактором сохранения этого пространства стало противодействие, которое встречали эти усилия со стороны жителей Кольского полуострова и их «союзников» – сначала в лице Новгородской «метрополии», а затем Российского государства2. Именно жесткость дипломатической и военной позиции России в сочетании с успешной борьбой против вооруженных вторжений, показавшая ее способность не допустить установления контроля над Мурманом со стороны других претендентов, окончательно закрепили эту территорию за Россией. Такая позиция Российского государства начала формироваться сразу после перехода Кольского полуострова в его состав как части новгородских владений и выразилась в простой и лаконичной формуле, выраженной в словах царя Ивана IV: Кола и Печенга – «наши исконные вечные вотчинные земли»3. Такой подход опирался на представление о Кольском полуострове («Лопской земле») как территории, принадлежавшей Великому Новгороду и Двинской земле, рас- сматривавшихся русскими монархами как давние их держания4.
Именно деятельность правительства Ивана IV и стала решающей в закреплении Кольского полуострова за Россией. Именно оно, использовав в качестве повода действия датчан против торговых кораблей, идущих в Россию, направило сюда вооруженные силы во главе с воеводой, обозначив создание здесь стандартного для того времени военно-административно-территориального округа – воеводства, ставшего, в свою очередь, основой создания административно-территориальной единицы Российского государства – Кольского уезда.
***
Первым воеводой, создававшим систему государственного управления и контроля в этом регионе, стал Аверкий Палицын, впоследствии ставший довольно заметной фигурой эпохи Смутного времени (как старец Авраамий) не только в качестве одного из организаторов сопротивления антигосударственным элементам и восстановления российской государственности, но и как автор одного из самых известных произведений об этих событиях – «Истории в память впредъ-идущим родом». Недаром его фигура изображена в виде горельефа на памятнике «Тысячелетие Руси» (1862).
Биография Аверкия Ивановича Палицына (а также его произведение) изучается исследователями уже на протяжении двух веков, поэтому, несмотря на сохранение отдельных лакун и сюжетов дискуссионного характера, весьма неплохо известна, став неотъемлемым элементом большинства литературных и исторических справочников и энциклопедий5.
Впервые имя Палицына, родившегося, по-видимому, около 1550 года6, встречается в де-сятне Московского уезда 1578 года как «сына боярского», находящегося на службе в «Москве без выезду», из тех, кто «собою добр» и кого «посылают… на всякие государевы дела»7. Исходя из того, что список составлялся после Ливонского похода царя Ивана IV 1577 года и что Палицыну был увеличен земельный оклад, можно предположить его участие в этом походе. Следующее продвижение Палицына по служебной лестнице как раз и связано с Кольским краем, куда в 1582 году он назначается воеводой8. Хотя документов, непосредственно касающихся его назначения и пребывания на этой должности, нет, на основании сведений голландского купца Симона ван-Салингена и ряда других источников мы можем сделать вывод о том, что Палицын пришел в г. Колу во главе отряда стрельцов и за недолгое (год-полтора) время своего воеводства сумел провести значительную работу по созданию и налаживанию деятельности государственных и торговых учреждений: им были организованы ямская гоньба и почта, взимание торговых пошлин и промысловой десятины с промышленников и купцов, строительство в городе гостиного двора для иностранных купцов, установление весов с норвежскими гирями9. Заметим, что большинство мероприятий, проведенных Палицыным, имеет организационно-хозяйственный, а не военный характер. По-видимому, это отличительная черта самого Аверкия Палицына, впоследствии неоднократно проявлявшаяся и в административной, и в церковной деятельности, – стремление искать мирного решения любых вопросов и интерес к хозяйственной стороне дела. Неудивительна и его последующая известная нам карьера преимущественно администратора-хозяйственника: летом – осенью 1584 года он был одним из «государевых посланников» («служилых людей», посылаемых для сбора чрезвычайных податей или сыска сбежавших закладчиков-должников или беглых крестьян) в Двинской земле10; в 1585–1586 годах – «дозорщик» (составитель «дозорных книг», описывавших соответствие размера налога платежеспособности населения) в Темниковском и Шацком уездах11; в 1587–1588 годах – один из составителей «памяти» (наказа) для наделения землей детей боярских и дворян Арзамаcского уезда12.
В 1588 году его служебная карьера неожиданно прерывается: он попадает «в опалу», причины которой нам остаются неизвестными. Правда, ряд исследователей, сопоставляя время опалы с «делом» о заговоре князей Шуйских против Бориса Годунова, выдвигают версию о его участии в дворцовой борьбе13, однако представляется более обоснованным мнение тех ученых, которые, как Я. Г. Солодкин, полагают, что «среднепоместный дворянин, которого раз за разом мы застаем вдали от Москвы, едва ли мог принимать активное участие в борьбе вокруг престола» [9: 183]. Опала означала конфискацию имущества и длительную ссылку, продолжавшуюся 12 лет, значительную часть которой А. Палицын провел в Соловецком монастыре. Несмотря на то что в этот период он иногда привлекался к выполнению тех или иных административных поручений, как, например, в 1596 году для организации описания дворцовой Ново-Никольской слободы Казанского уезда, возможность возвращения на государеву службу для него выглядела весьма призрачной. А вот тесное знакомство с монастырской жизнью и монастырским хозяй- ством, по-видимому, сформировало у Палицына идею о перспективности духовной карьеры. После того как в 1597–1598 годах он принимает постриг и становится монахом Соловецкого монастыря, его продвижение на этом поприще выглядит весьма стремительным: инок Троице-Сер-гиева монастыря в 1600 году, уже в 1601 году он становится управляющим подворьем, а затем – управляющим Свияжским Богородицким монастырем, откуда в 1602 году возвращается в Соловецкий монастырь, где занимает в течение года должность келаря (эконома, управляющего хозяйством). Пиком карьеры становится должность келаря крупнейшего и влиятельнейшего в России Троице-Сергиева монастыря, которую он занимал в течение 13 лет, с 1608 по 1620 год.
Значительная часть этого периода пришлась на один из самых драматических этапов развернувшейся с начала XVII века гражданской войны или Смуты начала XVII века, активным участником которой и стал келарь Троице-Сергиева монастыря. Его деятельность в условиях Смуты носила весьма сложный, порой зигзагообразный характер. Являясь первоначально сторонником царя Василия Шуйского, которому он помогал в обеспечении осажденной Москвы продовольствием во время осады «тушинцами», Палицын, вероятно, к концу его правления присоединился к сторонникам воцарения Михаила Скопина-Шуйского. Войдя в состав «великого посольства» для переговоров об условиях приглашения польского царевича Владислава на русский престол с королем Сигизмундом III и получив от него охранные грамоты на земли и права Троице-Сер-гиева монастыря, он через некоторое время стал одним из инициаторов составления и рассылки грамот с призывами к освобождению Москвы от поляков. Поддержав казаков Д. Трубецкого и И. Заруцкого, Авраамий в ходе освобождения Москвы в 1612 году активно способствовал переговорам с враждовавшими с ними отрядами нижегородского ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского. Впрочем, подобные зигзаги не являются чем-то исключительным для эпохи гражданской войны. Сложность и масштабность социально-политических процессов, непонимание причин и характера происходящих событий современниками (недаром они представлялись им в облике именно Смутного времени), неясность целей и задач участников – все это естественным образом порождало колебания большинства общественных групп и отдельных людей, вольно или невольно оказавшихся в подобном круговороте.
Авраамий оказался в числе активных участников подготовки и проведения Земского собора 1613 года, избравшего на царство Михаила Романова, членом делегации, отправленной 14 марта 1613 года в Костромской Ипатьевский монастырь для призвания на царство Михаила, вручившим ему царский посох, участником коронации Михаила в июле. Все эти события стали пиком его политической активности, после чего она заметно снижается. Хотя он, по-видимому, участвует в деятельности первых Земских соборов, основной его заботой становится восстановление благосостояния Троице-Сергиева монастыря. В 1618 году, когда архимандрит Дионисий в связи с неудачной, по мнению церковных властей, правкой ряда богослужебных книг был обвинен в еретичестве и отправлен в ссылку, Авраамий в течение года фактически возглавлял монастырь, в результате чего ему пришлось стать одним из руководителей обороны Троице-Сергиева монастыря от польских войск, успех которой стал одним из оснований Деулинского перемирия между Россией и Польшей.
В 1620 году Палицын покидает Троице-Серги-ев монастырь и последние годы жизни, закончившейся 23 сентября 1626 года, проводит старцем Соловецкого монастыря. Одни исследователи считают его отъезд ссылкой, связывая ее с возвращением патриарха Филарета из польского плена, не простившего Авраамию поведение во время «великого посольства» к Сигизмунду [11: 245–246], другие полагают, что отъезд в Соловки был добровольным14.
Последние полтора десятилетия Авраамий работал над повестью «История в память впредъ-идущим родом» («Сказанием Авраамия Палицына»), правомерно считающейся одним из лучших исторических произведений, посвященных событиям Смуты. Она получила широкое распространение среди читающей публики уже в XVII веке, сохранившись в большом количестве списков, которых известно более 220. Повесть достаточно сложна по составу, неоднократно переделывалась и имеет несколько редакций, в отдельных случаях заметно не совпадающих друг с другом. Составу, процессу ее создания, авторству и другим вопросам посвящена огромная литература [4], [5], [8], [9], [10], [11] и др. Из последних работ можно назвать, например, исследование Д. И. Антонова «Цари и самозванцы» [1].
Наиболее интересны в «Сказании», на наш взгляд, те главы, которые пытаются не только описать события Смуты, но и осмыслить их, объяснить причины произошедшего. Это первые восемь глав повести, являющиеся своеобразным введением к рассказу об осаде Троице-Сергие-ва монастыря и представляющие своеобразную аккумуляцию всего личного опыта автора, одновременно отражающего общественные настроения этого периода. Именно они дают возможность охарактеризовать политико-правовые взгляды Авраамия Палицына и, возможно, определить хотя бы некоторые их истоки. При анализе содержания этих глав мы попытаемся применить средства количественного анализа – так называемого метода контент-анализа, который, как совершенно справедливо утверждает Б. Н. Миронов, «надежен, сравнительно прост в обращении и эффективен» [3: 14]. Не вдаваясь в детали использования метода, отметим, что нашему анализу были подвергнуты образы, возникающие при чтении произведения Палицына. Конечно, здесь требуется определенный отбор: в подсчеты включались лишь те изображаемые им явления, которые представляют собой самостоятельные и неоднократно встречаемые на страницах объекты. В качестве таких смысловых единиц были выделены такие, например, категории, как «бог», «Россия», «мы», «народ», «бояре», «иноземцы» и ряд других.
Все материалы оценивались с точки зрения того, какой образ они создают в представлении читателя: положительный или отрицательный, в соответствии с чем информация была разделена на позитивную, негативную или нейтральную. Не вдаваясь в излишнюю детализацию определения индикаторов, отметим, что в качестве позитивных рассматривались образы, которые характеризуются высокими моральными качествами, такими как честность, смелость, помощь, ум, благодарность, твердость в вере и т. п. Соответственно, к негативным – ложь, жестокость, измена, гордыня и др.
Распределение образов по трем группам позволяет определить степень позитивности образа того или иного «героя» (в данном случае под «героем» мы понимаем не только отдельную личность, но и группу людей, территорию и т. д.). Причем значение здесь имеют не столько абсолютные цифры, сколько относительные показатели, поэтому количество вышеуказанным образом разделенной информации сопоставлялось с общим ее объемом. Соотношение позитивного и негативного оказывается в результате весьма показательным, создавая определенный уровень позитивности образа. Этот уровень позитивности может быть рассчитан как разница между объемом позитивных и негативных материалов, выраженных в процентах к общему количеству статей: (+n) – (-n) = ip:100. Максимальная пози- тивность, таким образом, оказывается равна +1,0, минимальная -1,0 (табл. 1). Естественно, что при подобного рода формализации материала исчезают порой немаловажные нюансы, однако это компенсируется возможностью выделить основные, наиболее существенные тенденции в развитии образа. Тем более, что детали могут быть обнаружены при использовании традиционных средств качественного анализа. Использование данного метода позволяет, во-первых, выделить самые характерные черты того или иного образа, во-вторых, выявить различия в образах и способы их изображения, в-третьих, обнаружить особенности в отношении к ним самого автора.
Таблица 1
Распределение информации в главах 1–8 «Сказания Авраамия Палицына» по уровню позитивности / негативности
Table 1
Distribution of information in Chapters 1–8 of the Tale of Abramius Palitsyn by level of positivity/negativity
|
Смысловые единицы |
Количество упоминаний |
i p |
|||
|
позитивные |
нейтральные |
негативные |
всего |
||
|
Дева Мария |
3 |
0 |
0 |
3 |
1,0 |
|
Бог |
17 |
1 |
13 |
31 |
0,13 |
|
Дьявол |
0 |
1 |
6 |
7 |
-0,86 |
|
Весь мир |
0 |
0 |
2 |
2 |
-1,0 |
|
Мы |
0 |
0 |
40 |
40 |
-1,0 |
|
Славяне |
1 |
1 |
0 |
2 |
0,50 |
|
Россия |
4 |
2 |
23 |
29 |
-0,66 |
|
Народ |
2 |
1 |
2 |
5 |
0,0 |
|
Все |
1 |
1 |
16 |
15 |
-0,83 |
|
Иван IV |
4 |
2 |
1 |
7 |
0,43 |
|
Феодор |
6 |
6 |
1 |
13 |
0,38 |
|
Дмитрий |
9 |
3 |
2 |
14 |
0,50 |
|
Григорий |
2 |
11 |
65 |
78 |
-0,81 |
|
Ирина |
0 |
2 |
0 |
2 |
0,0 |
|
Борис |
35 |
7 |
66 |
108 |
-0,31 |
|
Шуйский |
8 |
3 |
7 |
18 |
0,06 |
|
Ложный царь |
0 |
0 |
10 |
10 |
-1,0 |
|
Марфа Нагая |
1 |
1 |
2 |
4 |
-0,25 |
|
Умные |
1 |
0 |
6 |
7 |
-0,71 |
|
Знатные |
0 |
0 |
4 |
4 |
-1,0 |
|
Бояре |
0 |
0 |
9 |
9 |
-1,0 |
|
Вельможи |
0 |
2 |
5 |
7 |
-0,71 |
|
Начальники |
0 |
1 |
2 |
3 |
-0,67 |
|
Служилые люди |
0 |
1 |
4 |
5 |
-0,80 |
|
Купечество |
0 |
0 |
4 |
4 |
-1,0 |
|
Чернь |
0 |
1 |
0 |
1 |
0,0 |
|
Рабы |
5 |
4 |
11 |
20 |
-0,3 |
|
Имущие |
0 |
0 |
4 |
4 |
-1,0 |
|
Неимущие |
0 |
2 |
0 |
2 |
0,0 |
|
Простые |
0 |
1 |
4 |
5 |
-0,80 |
|
Духовенство |
3 |
3 |
20 |
26 |
-0,65 |
|
Патриарх |
0 |
2 |
2 |
4 |
-0,50 |
|
Филарет |
4 |
2 |
3 |
9 |
0,11 |
|
Москва |
5 |
10 |
10 |
25 |
-0,2 |
|
Москвичи |
1 |
0 |
9 |
10 |
-0,8 |
|
Регионы |
7 |
7 |
23 |
37 |
-0,43 |
|
Православные |
0 |
0 |
2 |
2 |
-1,0 |
|
Иноземцы |
19 |
6 |
56 |
81 |
-0,46 |
|
Казаки |
0 |
1 |
5 |
6 |
-0,83 |
|
Враги (злодеи) |
0 |
0 |
8 |
8 |
-1,0 |
|
Изменники |
0 |
0 |
30 |
30 |
-1,0 |
|
Троице-Сергиев монастырь |
10 |
0 |
0 |
10 |
1,0 |
|
Всего |
148 |
85 |
477 |
707 |
-0,46 |
|
% |
20,7 |
11,8 |
67,5 |
100 |
|
Прежде всего бросается в глаза весьма пессимистический образ окружающего мира и общества, создаваемый Палицыным. Из 707 отобранных в повести элементов лишь 148 (21 %) имеют положительную оценку, тогда как 477 (67 %) – явно негативную, создавая крайне низкий уровень позитивности (-0,46). Только единичные образы имеют исключительно положительную оценку: это «Дева Мария», «Троице-Серги-ев монастырь» и «северные территории» («люди, на берегах Студеного моря», «города Поморья», «Вологда», «Сибирь»), индекс позитивности ( i p ) которых равен +1. Даже образ бога не выглядит достаточно позитивным (хотя, понятно, сам Палицын видит это иначе), бог у него не только избавляет от бед, изливает щедроты, творит чудеса и свергает хвастливых гордецов, но и наказывает голодом, гневается и постоянно попускает беззакония. Очень любопытна в этом отношении фраза в отношении Григория Отрепьева: «Но кого попустил [бог]? Смеху достойно сказание, плача же велико дело бысть!»15 В результате индекс позитивности – лишь +0,1.
Пережитая эпоха бурных потрясений вполне естественным образом порождает у человека, особенно в преклонных годах (во время создания «Сказания» Палицыну идет седьмой десяток, что по меркам того времени весьма значительный возраст), ностальгические настроения, стремление к восстановлению утраченной стабильности. Учитывая, что главными проблемами, разрешавшимися в Смуте, были социально-политические, связанные с организацией и деятельностью государства и его взаимодействием с обществом, понятен интерес автора к устройству власти, центральным звеном которой он видит персону монарха. Для Средневековья вообще характерен персонифицированный взгляд на мир, в котором даже божественные силы (бог, дева Мария, дьявол) имеют некую личностную окраску. Соответственно и у Палицына на исторической арене представлены в первую очередь конкретные люди: 44 % всех анализируемых нами упоминаний в «Сказании». При этом 37 % – это не просто те или иные личности, а лица, связанные с троном, цари, претенденты на трон, члены царских семей.
«Сказание» принадлежит перу человека консервативного склада мышления. Он плохо приемлет действительность, связанную с выбором монарха людьми, ставшую обыденной практикой первых десятилетий XVII века. Автор – явный сторонник наследственной монархии, что хорошо видно из того факта, что все образы царей прекратившейся династии Рюриковичей вполне положительны и близки по значению: индекс позитивности Ивана IV даже выше, чем у Федора Ивановича: +0,43 против +0,38, еще более положителен образ несостоявшегося царя – царевича Дмитрия: +0,50.
В образе Ивана IV Палицын подчеркивает его благочестивость, храбрость и разум, а если и упоминает жестокость, то ставит ему это в заслугу, поскольку она не позволила «злодействующим» из польских и северских земель начать движение на Россию. В то же время он рекомендует Борису Годунову следовать Ивану Васильевичу лишь в отдельных «нравах» и без симпатии относится к разгрому Новгорода, устроенному царем.
Образ Федора Ивановича противоположен образу Ивана, однако также позитивен. Палицын называет его «блаженным», подчеркивает прежде всего его религиозность («всегда искал Вечного»), которая уже сама по себе обеспечивала
Таблица 2
Сводная таблица по укрупненным категориям.
Распределение информации в главах 1–8 «Сказания Авраамия Палицына» по уровню позитивности / негативности
Table 2
Summary table by aggregated categories.
Distribution of information in Chapters 1–8 of the Tale of Abramius Palitsyn by level of positivity/negativity
|
Смысловые единицы |
Количество упоминаний |
i p |
|||
|
позитивные |
нейтральные |
негативные |
всего |
||
|
Сверхъестественные силы |
20 |
2 |
19 |
41 |
0,02 |
|
Личности |
68 |
39 |
160 |
267 |
-0,34 |
|
Все население |
8 |
5 |
83 |
93 |
-0,81 |
|
Территории |
13 |
17 |
42 |
72 |
-0.40 |
|
Элита |
1 |
4 |
38 |
43 |
-0,86 |
|
Низшие |
5 |
8 |
15 |
28 |
-0,35 |
|
Духовенство |
17 |
7 |
27 |
51 |
-0,19 |
|
Противники |
19 |
7 |
99 |
125 |
-0,79 |
«пребывание российской Земли немятежным и изобильным во всех благах» и великую славу. И если Иван IV известен своей жестокостью, то Федор не хуже первого злодеев «как канатом твердым молитвой своей их связал»16. Критики он удостаивается, и то очень осторожной, за неспособность предотвратить действия «в обход царя».
Царевич Дмитрий у Палицына и вовсе скорее символ, нежели реальный человек, «красивейший юноша», «незлобивый агнец», печалящийся о разлучении с братом. Хотя Авраамий знает о его нелестных высказываниях в адрес ближайшего окружения брата, но извиняет, во-первых, «смущением» со стороны приближенных, а во-вторых (и прежде всего), «неповинной кровью». А вот выборные цари – Борис Годунов и Василий Шуйский – характеризуются совсем иначе. Образ первого очевидно негативен, начиная от его неискушенности в божественном писании и слабости к лести и заканчивая гордыней, клятвопреступлениями и потаканием еретикам. И даже признание его разумности в царском управлении, заботы о бедных и нищих, щедрости или беспощадности к злодеям не перевешивали в его глазах тех отрицательных качеств и, главное, их последствий для страны, что были присущи Борису. Отсюда неудивительно, что индекс позитивности Годунова всего -0,31 (правда, чуть выше среднего, составляющего -0,46). Образ Василия Шуйского в «Сказании» заметно более позитивен по сравнению с Годуновым (+0,01), но фактически балансирует на грани, создавая ощущение половинчатости и неопределенности. Палицын так прямо и говорит о нем как о человеке, «уклоничивый разум» имеющем. С одной стороны, он называет Шуйского благочестивым царем (подобное определение использовалось им несколько раз в отношении Ивана IV, но ни разу про Годунова) и обращает внимание на его борьбу с врагами христианскими, но, даже когда говорит об успехах в этой борьбе, например, о победе над отрядами Болотникова и взятии Тулы, обращает внимание на то, что удалось это лишь с большими ухищрениями, «едва». Василий, по мнению Авраамия, предал много неповинных смертному суду, верил «языком службу несущим», им порой «играли как ребенком». И это при том, что, как мы знаем, Авраамий был довольно близок к Шуйскому, активно, в частности, помогая ему обеспечивать оборону Москвы от «тушинцев» за счет ресурсов казны Троице-Сергиева монастыря.
Несомненно, нет ничего удивительного в практически полностью отрицательном отно- шении Палицына к «ложным царям» – Григорию Отрепьеву (называемому им «Гришкой», «расстригой», «чернецом», «окаянным еретиком») и «тушинскому вору» («царьку»). Если для первого он нашел хотя бы одно положительное качество – умение «всех объять» так, что тот стал «совершенно любим всеми», то второй не заслужил ни одного положительного отзыва. Соответственно и индексы позитивности (а правильнее – негативности) близки: -0,83 и -1,0.
В силу активной деятельности на политической арене в период Смуты именно последних общий образ монархии у Палицына негативен (-0,34), но, чтобы понять насколько, крайне важно сравнить его с образами иных действующих «героев» того времени, и прежде всего тех общественных сил и групп, которые принимают участие в этой драме.
Палицын упоминает большое число участников, имеющих разный социальный, сословный, этнический и иной статус, среди которых «знатные», «вельможи», «бояре», «имущие», «простые», «чернь», «неимущие», «рабы», «духовенство», «иноземцы», «казаки», «изменники» и многие другие. С некоторой долей условности их можно сгруппировать в несколько более крупных групп: представители высших слоев общества, низы, духовенство, иностранцы, внутренние враги. И здесь обнаруживается, что наиболее негативно в «Сказании» выглядит именно элита, высшее общество, индекс позитивности близок к абсолюту – -0,86. Они покоряются «злым замыслам» «расстриги» (князья и бояре), «со стыдом» отступают от Калуги (бояре и воеводы), заставляют служить себе неволей или лестью (вельможи), не смеют ничего не только сказать, но и «помыслить» против Бориса, продают худую рожь (хлеботорговцы), прельщаются «имением многим и трапезами сладкими» («разумные»). Этот показатель ниже даже, чем у иностранцев (ip -0,46) или внутренних врагов, с которыми идет война (ip -0,79). По сути дела, в повести «знатные», «бояре», «имущие», «купечество» приравнены к «врагам» («злодеям») и «изменникам» с точки зрения одинаковости негативности образа (-1,0). Однако Палицын критикует знать не за личные качества ее представителей, хотя нравственный облик многих из них ему не нравится. Его прежде всего беспокоит отказ от той роли, которую элита должна, по его мнению, играть в государстве, участвуя в принятии решения монархами: он осуждает покорность и «потакание» царям, нежелание вступать в полемику с ними, как те «вельможи», что «без прере- каний» согласились признать Василия Шуйского. Палицын полагает, что это их обязанность говорить царям правду. Отсюда настоящими героями выглядят в его глазах дворяне Петр Тургенев и Федор Колачник и дьяк Тимофей Осипов, открыто выступившие против Григория Отрепьева. Он ставит в вину москвичам, что они не только не поддержали их, но даже смеялись над ними.
Впрочем, другие группы выглядят лишь немногим лучше. Наверное, можно было бы выделить духовенство с его индексом позитивности -0,19, однако столь «высокая» цифра формируется лишь за счет позитивного образа Троице-Сергиева монастыря (о чем говорилось выше); если же исключить эти упоминания из расчета, позитивность образа резко снижается до -0,49. Священнослужители, многие из которых являются «невеждами и необразованными», не ищут справедливости, покоряются Отрепьеву, занимают места «мздою и клеветой», присоединяются к врагам. И только в «доме великого чудотворца», на который «вся Россия, как на солнце, смотрела», загорелась «малая искра огня божественной любви», от которой «пламень добродетели запылал»17.
В советской историографии нередко обращалось внимание, что Смута являлась в глазах публициста следствием тяжелого положения низов, выходом «слез и гнева» обиженных и угнетенных» [6: 40]. У Палицына можно обнаружить чуть меньшую негативность образа низов, но именно меньшую, и вовсе не позитивность, индекс которой в целом -0,35. «Простые» у него, как и все, «во все более горькие и злые дела впадали», прельщались, нередко присоединялись к врагам.
Фактически, как уже отмечалось, нет ни одной общественной группы, которую Палицын охарактеризовал бы положительно. Описывая роль отдельных людей и групп в возникновении и развитии Смуты, он приводит читателя к довольно простому выводу, к которому пришел сам: виноваты все! Одна из наиболее частых категорий, встречающихся в его «Сказании», именно «все» (13 % от общего числа упоминаний) в разных интерпретациях («весь мир», «мы», «народ», «Россия», «многие»), имеющих крайне неопределенное звучание. И негативность образа этих «всех» (-0,81) уступает только врагам (-1,0), изменникам (-1,0) и представителям верхов (-0,86).
Нельзя не обратить внимание на крайне негативное отношение Авраамия к «москвичам» («московскому народу») как особой категории населения (ip -0,79): он обвиняет их в сотрудничестве с антихристовыми проповедниками, с поляками и лютеранами, гордыне («всякий своими подвигами хвалился и храбростью кичился, вместо молебного славословия»), корыстолюбии и многих других грехах. Единственным одобряемым их действием он считает восстание против Лжедмитрия, однако оно оказалось фактически сведено на нет тем, что вместо «благодарения» господу москвичи проявили «безумство и гордость».
Собственно, если пытаться найти действительных героев на страницах «Повести», то их крайне немного: это либо отдельные личности, такие как дворяне Петр Тургенев и Федор Ко-лачник или дьяк Тимофей Осипов, выступившие против Отрепьева, либо уже упоминавшиеся монахи Троице-Сергиева монастыря, либо, наконец, население северных окраин. Среди последнего обращает на себя внимание весьма позитивное отношение Палицина к жителям североевропейских территорий:
«…у моря на севере живущим… на берегах Студеного моря и Океана», которые «царству… помогают» и городам «в Поморье» не соблазнившимся и продолжавшим держаться «крестному целованию… Московского государства»18.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Такое очевидное противопоставление населения северорусских окраин москвичам не может не быть связано с опытом проживания Палицына на Севере (как в Соловецком монастыре, так и в Коле в период его воеводства) и взаимодействия с северянами. Можно с уверенностью предположить, что пребывание «на берегах Студеного моря» не только оставило заметный след в биографии Аверкия Палицына, но и помогло формированию его представлений о взаимоотношениях государства и общества в целом, положив начало становлению политико-правовых взглядов, развитых впоследствии в «Сказании». Начав создавать государственность на отдельно взятой территории на практике, Палицын пришел не только к участию в строительстве российской государственности в целом, но и попытке оценить эти процессы, пусть еще очень упрощенно, в теории.
Список литературы Становление российской государственности в Европейской Арктике и формирование политико-правовых взглядов Авраамия Палицына
- Надо заметить, что и до XVI века в условиях существования региона в составе Новгородской земли (правопреемником которого и стало Московское государство) западные очертания границы в целом были достаточно близки к современным. Конечно, отдельные изменения на протяжении периода существования в составе России здесь происходили, но носили, как правило, незначительный характер, сохраняя основную территорию Кольского полуострова под контролем Российского государства.
- Более подробно об этом см., например, в нашей статье [12].
- Сборник Русского исторического общества. СПб., 1883. Т. 38. C. 10.
- Так, в формуле Яжелбицкого договора 1456 года великого князя Василия Васильевича с Новгородом отчетливо подчеркивается давность прав московских князей на княжение в Новгороде, начиная с великого князя Владимирского Андрея Ярославича в XIII веке. «Как целовал князь великий Ондрей и князь великий Иван, и князь великий Семен, и прадед твой князь великий Иван, и дед твой князь великий Дмитрий, и отец твой князь великий Василий, целуй, господин князь великий Василий Васильевич и князь великий Иван Васильевич, по тому же крест ко всему Великому Новгороду. Новгород держати вам в старине, по пошлине, без обиды» (Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 40).
- См., например: Отечественная история: Энциклопедия. М., 1994. Т. 1. С. 22; Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. М., 1962. С. 58; [6] и мн. др.
- Как полагает Я. Г. Солодкин, возможно, в середине осени, поскольку день святого Аверкия приходился на 22 октября [9: 182].
- Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. М., 1911. Кн. 1. С. 19, 30.
- А. В. Тищенко: Его работы, статьи о нем. Пг.: Типография М. А. Александрова, 1916. С. 16.
- Русские в Лапландии в XVI веке // Литературный вестник. Т. 1. Кн. III. СПб., 1901. С. 305.
- Русская историческая библиотека. СПб., 1908. Т. 25. С. 100—102.
- Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Тамбов, 1890. Вып. 28. С. 112.
- Смутное время Московского государства. 1604-1613 гг. М., 1911. Вып. 4. Арзамасские поместные акты (1578-1618 гг.). С. 39-40, 617.
- «Причина опалы неизвестна, - писал С. М. Соловьев, - но нельзя не обратить внимания на год ее - 1588, ибо незадолго до этого времени, именно в конце 1587 года, подверглись опале Шуйские, друзья их и клевреты вследствие замыслов против Годунова. ...Только с восшествием Шуйского на престол Авраамий получает важное значение» [7: 509].
- Кедров С. И. Авраамии Палицын // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. М., 1880. Т. 4. С. 186-191.
- Сказание Авраамия Палицына. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 110.
- Там же. С. 107.
- Там же. С. 130.
- Там же. С. 128, 129.
- Антонов Д. И. Цари и самозванцы: борьба идей в России Смутного времени. М.: РГГУ, 2019. 312 с.
- Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. / Пер. с нем. М. В. Антонова, С. В. Лёзова. СПб.: ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2015. 542 с.
- Миронов Б. Н. История в цифрах: Математика в исторических исследованиях. Л.: Наука, 1991. 167 с.
- Морозова Л. Смута начала XVII века в сочинениях современников. М., 2017. 864 с.
- Платонов С. Ф. Древнерусские повести и сказания о Смутном времени XVII века как исторический источник // Платонов С. Ф. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Наука, 2010. T. 1. С. 36-41.
- Словарь книжников и книжности Древней Руси / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев; Ред. Д. М. Була-нин, А. А. Турилов; Предисл. Д. М. Буланина. СПб.: Дмитрий Буланин, 1992. Вып. 3: XVII в., ч. 1 : А-З. 410 с.
- Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн. М.: Соцэкгиз, 1960. Кн. 4: Т. 7-8. 778 с.
- Солодкин Я. Г. Как создавалась «История» Авраамия Палицына (полемические заметки) // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2009. № 2. С. 40-47.
- Солодкин Я . Г. Авраамий Палицын и его «История» (спорные вопросы биографии и творчества публициста Смутного времени) // Грани гуманитарного знания. Курск, 2014. С. 181-200.
- Тюменцев И. О. Датировка и атрибуция первых шести глав «Сказания» Авраамия Палицына // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 2000. Т. 27. С. 64-69.
- Тюменцев И. О. Из истории создания «Истории» Авраамия Палицына // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 234-247.
- Voronin A., Gaynutdinov R. Formation of the region's subjectivity in the Russian Arctic (To the problem of periodization of the process of forming the administrative-territorial borders of the Kola Peninsula) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. St. Petersburg, 2020. Vol. 539. 9 p. DOI: 10.1088/17551315/539/1/012012