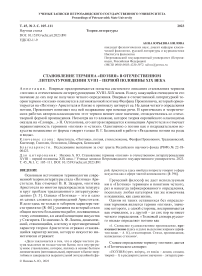Становление термина «поэзия» в отечественном литературоведении XVIII - первой половины XIX века
Автор: Нилова Анна Юрьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Впервые предпринимается попытка системного описания становления термина «поэзия» в отечественном литературоведении XVIII-XIX веков. В силу кажущейся очевидности его значение до сих пор не получило четкого определения. Впервые в отечественной литературной теории термин «поэзия» появляется в латиноязычной поэтике Феофана Прокоповича, который ориентируется на «Поэтику» Аристотеля и близко к оригиналу цитирует ее. Не давая четкого определения поэзии, Прокопович понимает под ней подражание при помощи речи. В критических и теоретических работах авторов-классицистов этот термин меняет свое значение, отождествляясь со стихотворной формой произведения. Несмотря на то влияние, которое теория европейского классицизма оказала на «Словарь...» Н. Остолопова, его автор возвращается к концепции Аристотеля и отмечает неравнозначность терминов «поэзия» и «стихи». Однозначно о поэзии как о подражательном искусстве независимо от формы говорит только В. Г. Белинский в работе «Разделение поэзии на роды и виды».
Аристотель, «поэтика», поэзия, стихосложение, феофан прокопович, тредиаковский, кантемир, глаголев, остолопов, шевырев, белинский
Короткий адрес: https://sciup.org/147239875
IDR: 147239875 | УДК: 82-1/-9 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.891
Текст научной статьи Становление термина «поэзия» в отечественном литературоведении XVIII - первой половины XIX века
Основным источником терминологии современной теории литературы стала «Поэтика» Аристотеля. Как отмечает В. Н. Захаров, «поэтика Аристотеля во многом предопределила тезаурус и круг проблем традиционного литературоведения» [5: 3]. Однако «Поэтика» – это и одно из самых сложных произведений Аристотеля. И дело здесь не только в «сборном характере текста трактата» [8: 461], указания на который стали общим местом большинства работ, посвященных этому сочинению, а в самой концепции искусства у Стагирита. По мнению А. Ф. Лосева, динамический, становящийся, а потому и противоречивый характер теории Аристотеля отражал становящийся характер жизни, которую искусство ми-метически отражает:
«Дело заключается в том, что в сфере чистого разума мыслится не только чистое бытие, но и внутри-ра-зумное становление, которое, являясь в основе бытием динамическим (потенциальным), переходит в бытие энер-гийное и завершается выразительной энтелехийной сфе- рой. Аристотель здесь иной раз попросту говорит о сфере искусства как о сфере чистой возможности» [8: 396].
Греческий философ не дает используемым им в «Поэтике» терминам и понятиям четкого, раз и навсегда зафиксированного определения, поскольку любая категория так же изменчива и подвижна, как сама жизнь.
Одним из таких оставшихся без определения терминов является термин «поэзия», значение которого, с одной стороны, воспринимается как очевидное, а с другой – до сих пор не имеет четкого определения. «Толковый словарь русского языка» определяет поэзию как
«1. Словесное художественное произведение, преимущественно (здесь и далее выделение жирным шрифтом наше. – А. Н. ), стихотворное. Стихи, произведения, написанные стихами»1.
Схожее определение термину «поэзия» дается в «Поэтическом словаре»:
«ПОЭ́ ЗИЯ (греч. ποίησις, от ποιέω – делаю, создаю, творю) – 1) в расширительном значении – литературно-
художественные произведения в стихах или прозе. 2) В настоящее время употребляется в более узком понимании: П. – это стихотворные художественные произведения, в отличие от художественной прозы» [6].
Н. Ю. Алексеева, касаясь интерпретации рассматриваемого термина Тредиаковским, говорит об «органичном для русской мысли и речи» значении понятия и термина «поэзия» [1: 564], но не уточняет, какое именно значение является органичным. И. А. Перельмутер анализирует сравнение в аристотелевой «Риторике» стихотворной и прозаической речи и пишет о «четком разграничении между стилем по -эзии и стилем прозы» в сочинениях Аристотеля, отождествляя поэзию и прозу [9: 181]. У самого же греческого философа такого однозначного отождествления нет. Целью предлагаемой статьи является описание динамики значения термина «поэзия» в отечественном литературоведении XVIII – начала XIX века.
***
В «Поэтике» Аристотель так описывает предмет своего сочинения:
«Эпическая и трагическая поэзия, а также комедия и поэзия дифирамбическая, большая часть авлетики и кифаристики, – все это искусства подражательные; различаются они друг от друга в трех отношениях: или тем, в чем совершается подражание, или тем, чему подражают, или тем, как подражают, – что не всегда одинаково. <…> Подражание происходит в ритме, слове и гармонии, отдельно или вместе… <…> а то искусство, которое пользуется только словами без размера или с метром, притом либо смешивая несколько размеров друг с другом, либо употребляя один какой-нибудь из них, до сих пор остается <без определения>» [2: 40–41].
В другом фрагменте читаем:
«…людей, связывающих понятие “творить” с метром, называют одних – элегиками, других эпиками, величая их поэтами не по сущности подражания, а вообще по метру. И если издадут написанный метром какой-нибудь трактат по медицине или физике, то они обыкновенно называют его автора поэтом, а между тем у Гомера и Эмпедокла нет ничего общего, кроме метра, почему первого справедливо называть поэтом, а второго скорее фисиологом, чем поэтом. Равным образом, если бы кто-нибудь издал сочинение, соединяя в нем все размеры, подобно тому как Херемон создал “Кентавра”, рапсодию, смешанную из всяких метров, то и <его> приходится называть поэтом» [2: 41].
В конце второй главы, говоря о людях, которым подражают поэты, Аристотель уравнивает стихотворную и прозаическую речь.
«Странным образом, – пишет А. Ф. Лосев, – искусство слова трактуется либо как прозаическое, либо как стихотворное, а от общего наименования отдельных жанров этого искусства
Аристотель резко отказывается» [8: 422]. В целом же Аристотель понимает поэтическое искусство как изображение того, что могло бы случиться «по вероятности или необходимости». Именно этим, а не видом речи (поэтической или прозаической) поэтическое искусство отличается от риторики, которую Аристотель определяет как «способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета» [2: 89].
Как отмечает А. С. Курилов,
«на русском языке ни в XVII, ни в первой трети XVIII века не было создано ни одной национальной поэтики. Все вопросы, касающиеся стиховедения (исключая переиздания “Грамматики” Смотрицкого), а затем и поэтического искусства вообще, получали в то время свое отражение в курсах, прочитанных или написанных преимущественно на латинском языке» [7: 54].
Курс «О пиитическом или стихотворном искусстве» братья Лихуды прочитали в Славяно-греко-латинской академии на греческом языке, его основным содержанием были метрика и стихосложение. И хотя в пределах своего курса Ли-худы практически не давали сведений о родах и видах поэтического искусства, они впервые в отечественной практике вывели пиитику «из состава грамматики в самостоятельную область филологии» [7: 54].
Важным этапом в становлении термина «поэзия» в русской литературно-критической мысли являются труды Федора Поликарпова (ок. 1670– 1731) «Алфавитарь рекше Букварь славенски-ми, греческими, римскими письмены учитися хотящим, и любомудрие, в пользу душеспасительную, обрести тщащимся» (Москва, 1701 г.) и «Лексикон треязычный. Сиречь речений сла-венских, еллиногреческих и латинских сокровище из разных древних и новых книг собранное и по славенскому алфавиту в чинах разположен-ное» (Москва, 1704 г.). В отличие от современных им поэтик и риторик они были написаны на русском языке. В «Букваре…» он использует термин «пиитика», понимая под ним, вслед за школьными пиитиками предшествующего периода, обучение стихосложению. В «Лексиконе…» в качестве синонима к пиитике употребляет термин «поэтика» и понимает под ними «стихотворную науку» [7: 60]. При всей прогрессивности терминологии Федора Поликарпова в обоих случаях он говорит именно о стихотворной форме произведений.
Завершает эпоху отечественных латиноязычных поэтик грандиозное по объему и значимости сочинение Феофана Прокоповича «De arte poetica», написанное для курса, который он прочитал в Киево-Могилянской академии в 1705 году. Слово poeseos (поэзия) Феофан Прокопович возводит к греческому слову poiein (творить, сочинять):
Природу поэзии он определяет следующим образом:
«…historiae enim simpliciter res gestas enarrant, nec effigendo eas imitantur: dialogistae vero imitantur quidem & effingunt, sed soluta oratione non metro id faciunt. Poeta vero, cui & factoris & fictoris nomen est, carmina facere, res fingere, id est, efficta canere debet»4.
Г. Стратановский переводит слово carmen как стихи:
«…история ведь просто повествует о подвигах и не воспроизводит их посредством изображения. Диалогисты же воспроизводят и изображают, но делают это не стихами, а в прозаической речи. Поэт же, имя которому “творец” и “сочинитель”, должен слагать стихи , придумывать содержание, т. е. воспевать вымышленное»5.
Такой перевод, в целом верный, не учитывает все оттенки значения слова carmen, которое обозначает не столько метрически организованную речь (как русское слово «стихи»), сколько речь, отличную от обычной (ср. «carminibus solvere mentes» у Вергилия или «lex horrendi carminis erat» у Тита Ливия). Определяя предмет поэзии, Феофан Прокопович пишет:
Г. Стратановский переводит выражение «ligata oratione» как «стихотворная речь»7, что несколько искажает содержание фрагмента и придает ему отсутствующее однозначное толкование. Слово versum (стихи как метрически организованный текст) Феофан Прокопович использует в III главе первой книги при описании поэтического вымысла. Ссылаясь на Аристотеля, он пишет:
Здесь Феофан Прокопович однозначно говорит о метрически организованной речи, но вслед за Аристотелем (которого, заметим, очень точно пересказывает) указывает, что метр не является отличительным признаком поэзии. Продолжая рассуждение о поэтическом вымысле, Прокопович снова обращается к авторитету греческого философа и очень близко к оригиналу излагает содержание «Поэтики»:
Феофан Прокопович соглашается с Аристотелем в том, что специфической сущностной особенностью поэзии является не метрически организованная речь, а вымысел и подражание. Что же касается слова versum, то Прокопович использует его, когда говорит конкретно о стихотворной форме, а не о поэзии. Приведем некоторые примеры употребления этого слова: «Ovidianos versus aliquot»12 (некоторые стихи Овидия), «de versu hexametro recte construendo»13 (путем правильного построения гекзаметрического стиха), «invenitur ejusmodi versus apud Horatium»14 (подобный стих есть у Горация) и пр. Показательно употребление слова versum при описании стилистических упражнений:
Далее он как совершенно равнозначные с точки зрения поэтического искусства приводит прозаическое описание разрушенных городов в письме Сервия Сульпиция к Цицерону и стихотворное в поэме Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Метр у Феофана Прокоповича относится к сфере стилистики, а не к природе поэтического искусства.
Большое значение в развитии отечественной литературоведческой терминологии принадлежит А. Д. Кантемиру. В комментариях к переводу «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля он останавливается и на интересующей нас проблеме. Комментируя роман «Принцесса Клев-ская» М.-М. де Лафайет, который упоминается у Фонтенеля, Кантемир так описывает его жанр:
«…есть подъ симъ титломъ французской романцъ, которой содержитъ вымышленную повѣсть о принцессѣ де Клевъ. Есть же романцъ баснь, въ которой описуется острыми выдумками какое любовное дѣло по правилам эпическаго стихотворенiя, для забавы и наставленiя читателей. Эпическое стихотворенiе есть повѣсть художновымышленная къ исправленiю нравовъ, чрезъ наставленiй прикрытiе подъ прiуподобленiями какого важнаго дѣйства, описанного стихами, такимъ обра-зомъ, что истинѣ казалося подобно и было не меньше забавно, чѣмъ удивительно»17.
Кантемир сравнивает роман (романц) с басней, повестью и эпическим стихотворением и указывает на то, что он содержит вымысел. По мнению А. С. Курилова, именно наличием вымысла роман в этом определении отличается от повести, которая в сознании читателей еще прочно ассоциировалась с древнерусским жанром, содержащим описание реальных событий (ср. Повесть временных лет) [7: 94–95]. Однако вымысел должен казаться подобным истине, то есть Кантемир вслед за Аристотелем пишет о вымысле и правдоподобии как специфических чертах поэтического искусства. Кантемир указывает, что роман создается по правилам эпического стихотворения, которое, в свою очередь, пишется стихами, однако о стихотворной форме как обязательном признаке романа он не говорит. Помещая прозаический жанр в один ряд со стихотворными произведениями и определяя его через сравнение с ними, Кантемир выводит стихотворную форму за пределы поэзии и поэтического искусства. Однако эти термины не употребляются, речь идет либо о конкретных жанрах, либо о стихотворстве, стихе и стихотворении.
Термины «поэзия», «стихотворство», «стихотворение» впервые четко разделил В. Тредиаков-ский в статье «Мнение о начале поэзии и стихов вообще»:
«…многие, пишучи первонача льно о поэзии, иногда сливали ее со стихами. Наш язык весьма сему подвержен, когда поэзию называют стихотворением, хотя, впрочем, прямое понятие о поэзии есть не то, чтоб стихами составлять, но чтоб творить, вымышлять и подражать. Творение есть расположение вещей после оных избрания; вымышление есть изобретение возможностей, то есть не такое представление деяний, каковы они сами в себе, но как они могут быть или долженствуют; а подражание есть следование во всем естеству описанием вещей и дел по вероятности и подобию правде. Всяк видит, что стих есть не то; творение, вымышление и подражание есть душа и жизнь поэмы, но стих есть язык оныя. Поэзия есть внутреннее в тех трех, а стих токмо наружное»18.
Далее Тредиаковский приводит уже упоминавшееся аристотелево сравнение историка с пиитом. Н. Ю. Алексеева высказала предположение, что именно в этой статье впервые слово «поэзия» было употреблено Тредиаковским «в современном смысле» [1: 563]. Правда, исследователь не уточняет, какое именно из современных значений она имеет в виду. В анализируемой статье Тредиаковский разводит понятия «поэзия» и «стихи», «стихотворение» как вид искусства и его «язык», форму, однако позднее, по наблюдению Н. Ю. Алексеевой, отождествляет понятия «поэзия» и «стихотворение» [1: 563]. В статье 1755 года «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» Тредиаковский вслед за Аристотелем определяет поэзию как подражание, но однозначно и последовательно использует понятия «поэзия», «стихи», «стихосложение» как синонимические. Характеризуя дальнейшее функционирование термина «поэзия» в отечественном литературоведении, Н. Ю. Алексеева пишет:
«Только к 1790-м годам понятие поэзия, а вместе с ним и термин, становятся наконец органичными для русской мысли и речи. Таким образом, предложенное Тредиаковским учение о божественной природе поэзии, не оказав, по-видимому, прямого влияния на современников, предопределило понимание поэзии в литературе сентиментализма и романтизма» [1: 564].
Однако, как кажется, процесс усвоения отечественной литературоведческой мыслью термина «поэзия» был несколько сложнее. Сумаро- ков использует слово «поэзия» в стихотворении «О худых рифмотворцах». Название заставляет ожидать отождествления поэзии и стихов, однако автор наравне с Расином, Мольером, Тассо упоминает Вольтера и Дидро, характеризуя с точки зрения критериев истинной поэзии не только стихотворные, но и прозаические произведения. В стихотворении «Учитель поэзии» Сумароков однозначно отождествляет поэзию и стихотворство. Подобное же отождествление мы находим и в статье «О стопосложении». Вероятно, вопрос об объеме и содержании терминов «поэзия» и «стихи» не был предметом специальной теоретической рефлексии Сумарокова.
Примером понимания в начале XIX века терминов «поэзия» и близких к нему «стихи», «стихотворство» может послужить перевод 25-й главы аристотелевой поэтики, выполненный А. Г. Глаголевым и опубликованный в ч. 16 за 1819 год «Трудов Общества любителей российской словесности при Московском университете». Переводчик последовательно использует термин «поэзия» как в самом тексте перевода, так и в примечаниях. Он соглашается с Аристотелем и Платоном, высказывания которого приводит для сравнения и прояснения теории Стагирита, в том, что поэзия есть подражание. Однако Глаголев также последовательно называет поэта стихотворцем, как в основном тексте, так и в примечаниях. Например, фразу Аристотеля «Ἔπεὶ γάρ ἐστι μιμητὴς ὁ ποιητὴς ὡσπερανεὶ ζωγράφος ἤ τις ἄλλος εἰκονοποιός» (Поэт есть подражатель, так же как и живописец) он переводит следующим образом: «Поелику стихотворецъ есть подражатель, также какъ и Живописецъ»19. В сноске к первому предложению своего перевода Глаголев пишет: «Аристотель говоритъ здѣсь, что Стихотворецъ должен заимствовать предметы своего подражанiя или изъ мiра существу-ющаго <…> или изъ мiра Историческаго…»20. Для него стихотворство, так же как и поэзия, является подражанием, и понятия «поэзия», «стихи», «стихотворство» он использует как синонимы. Следует отметить, что в ч. 8 за 1817 год в этом журнале опубликовано письмо Саларёва «Нѣкоторые замѣчанiя о критикѣ», в котором автор использует термин «поэзия», говоря о литературе вообще21. Следовательно, во второй половине 1810-х годов термины «поэзия», «стихи», «стихотворение» не были кодифицированы.
Наиболее четко проблему соотношения терминов «поэзия» и «стихи», «стихотворство» поставил Н. Ф. Остолопов в «Словаре древней и новой поэзии». Поэзию он определяет следующим образом:
«Поэзія есть вымыслъ, основанный на подражаніи природѣ изящной и выраженный словами, расположенными по извѣстному размѣру – такъ какъ проза или краснорѣчіе есть изображеніе самой природы рѣчью свободною»22.
Автор словаря относит прозу к сфере риторики, оставляя поэзии слова, «расположенные по известному размеру», то есть в качестве обязательного признака поэзии называет стихотворную форму. Однако он понимает сложность такой дифференциации и знаком с мнением Аристотеля о том, «что проза и стихи не отли-чаютъ историка отъ поэта: хотя бы вы переложили <…> всѣ Иридотовы сочиненія въ стихи, не вышло бы изъ нихъ ни одной поэмы»23. Также он хорошо понимает, что может быть как вымысел в прозе (романе), так и описание реальных событий в стихах (исторические и дидактические поэмы), вопрос же художественного обобщения, типизации перед Остолоповым в данном случае, вероятно, не стоит:
«…мы встрѣчаемъ вымыслы піитическіе, представленные въ простой одеждѣ прозы, каковы суть романы и все писанное въ ихъ родѣ; встрѣчаемъ также предметы истинные, кои бываютъ украшены всѣми прелестями поэзіи таковы поэмы историческія и дидактическія. Но сіи вымыслы въ прозѣ и сіи повѣствованія или поученія въ стихахъ не заключаютъ въ себѣ ни настоящей прозы, ни настоящей поэзіи; это смѣсь двухъ раз-личныхъ сущностей, это суть изключенія изъ общаго правила, не могущія опровергнуть показаннаго здѣсь опредѣленія поэзіи»24.
Пытаясь решить возникшую проблему, Остолопов ссылается на мнения авторитетных европейских теоретиков (Maggio, Бате, Буттверка, Блера) о сути поэзии, отмечает попытки полностью свести поэзию исключительно к стихотворству, независимо от содержания, и в результате утверждает, что «сущность поэзіи состоитъ въ вымыслѣ или творчествѣ, подражающемъ изящной природѣ»25, понимая под стихотворной формой «необходимое для совершеннаго изображенія предметовъ средство»26.
Совершенно иной подход к пониманию сущности поэзии лежит в основе работы С. П. Ше-вырева «Теория поэзии в историческом ее развитии у древних и новых народов» 1836 года. Ее автор без возражений принимает атрибуцию Жаном Полем Рихтером романа как поэтического жанра. Более того, Шевырев называет новым и самым удовлетворительным воззрением на роман разделение немецким теоретиком этого жанра на роман эпический, драматический и лирический27.
Теория Рихтера оказала существенное влияние на концепцию поэзии В. Г. Белинского.
В работе «Разделение поэзии на роды и виды» критик называет поэзию высшим родом искусства [3: 294].
«Поэзия выражается в свободном человеческом слове, которое есть и звук, и картина, и определенное, ясно выговоренное представление. Посему поэзия заключает в себе все элементы других искусств, как бы пользуется вдруг и нераздельно всеми средствами, которые даны порознь каждому из прочих искусств. Поэзия представляет собою всю целостность искусства, всю его организацию и, объемля собою все его стороны, заключает в себе ясно и определенно все его различия» [3: 296].
При таком определении поэзии вопрос о поэтической и прозаической форме поэзии не возникает, поэтому Белинский, как и Жан Поль Рихтер, относит к эпической поэзии роман, который полностью соответствует пониманию поэзии как синтезирующего искусства. Поэтическая теория В. Г. Белинского завершила развитие понятия «поэзия» в отечественном литературоведении XVIII – первой половины XIX века, закрепив за ним определение вида искусства, а не его формы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Термин «поэзия», один из основных терминов современной литературной теории, в силу своей кажущейся очевидности не получил до сих пор однозначного толкования. Под ним понимается и вид искусства, и его форма. На протяжении XVIII – первой половины XIX века интерпретация этого термина претерпевает заметную динамику. Если в сочинениях Ф. Прокоповича, А. Кантемира и ранних статьях В. Тредиаковско-го поэзия и стихотворство / стихотворная речь не отождествлялись прямо и однозначно, то к началу XIX века эти термины начинают все чаще восприниматься как синонимичные. Однако в работах С. П. Шевырева и В. Г. Белинского, написанных под влиянием эстетики немецкого предромантизма, термин «поэзия» закрепляется за видом искусства в соответствии с этимологией этого слова.
Список литературы Становление термина «поэзия» в отечественном литературоведении XVIII - первой половины XIX века
- Алексеева Н. Ю. Комментарии // Тредиаковский В. К. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою. СПб.: Наука, 2009. С. 501-654.
- Аристотель. Об искусстве поэзии /Пер. В. Г Аппельрота. М.: ГИХЛ, 1957. 183 с.
- Аристотель. Риторика /Пер. Н. Платоновой // Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб.: Азбука-классика, 2000. С. 81-345.
- Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Художественная литература, 1978. Т. 3. С. 294-350.
- Захаров В. Н. Историческая поэтика и ее категории // Проблемы исторической поэтики. 1992. № 2. С. 3-9.
- Квятковский А. П. Поэзия // Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966. С. 221.
- Курилов А. С. Литературоведение в России XVIII века. М.: Наука, 1981. 264 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. 776 с.
- Перельмутер И. А. Аристотель // История лингвистических учений. Древний мир /Отв. ред. А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон. Л.: Наука, 1980. С. 156-180.