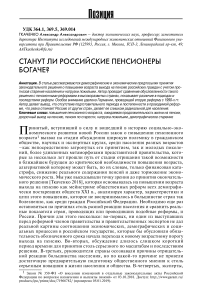Станут ли российские пенсионеры богаче?
Автор: Ткаченко Александр Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются демографические и экономические предпосылки принятия законодательного решения о повышении возраста выхода на пенсию российских граждан с учетом прогнозов старения населения и нагрузки пожилыми. Автор проводит сравнение обусловленности такого решения с пенсионными реформами в высокоразвитых странах, показывает различие в подходах и последствиях реформ. Особое внимание уделено Германии, проводящей вторую реформу с 1990-х гг. Автор делает вывод, что отсутствие подготовительного периода и постепенности в проводимой реформе, что резко отличает Россию от других стран, делает ее слишком радикальной для населения.
Повышение пенсионного возраста, ожидаемая продолжительность жизни на пенсии, досрочный выход на пенсию, пенсия по старости, нагрузка пожилыми, демографическое старение
Короткий адрес: https://sciup.org/170171315
IDR: 170171315 | УДК: 364.1, | DOI: 10.31171/vlast.v27i1.6195
Текст научной статьи Станут ли российские пенсионеры богаче?
Принятый, вступивший в силу и вошедший в историю социально-экономического развития новой России закон о повышении пенсионного возраста1 вызвал на стадии обсуждения широкую полемику в гражданском обществе, научных и экспертных кругах, среди населения разных возрастов –как непосредственно затронутых его принятием, так и молодых поколений, более удивленных метаморфозами представителей правительства, которые за несколько лет прошли путь от стадии отрицания такой возможности в ближайшем будущем до критической необходимости повышения возраста, альтернативой которому может быть, по их словам, только финансовая катастрофа, снижение реального содержания пенсий и даже торможение экономического роста. Мы уже высказывали точку зрения до принятия окончательного решения [Ткаченко 2018], которая основывалась на повышении возраста выхода на пенсию как мейнстриме общественных реформ всех демографически постаревших обществ XXI в., анализируя характер, характеристики и цели этого повышения, которое не воспринималось в большинстве стран так болезненно, как среди граждан Российской Федерации. Необходимо еще раз остановиться на причинах столь разной реакции населения и сравнить реальные показатели стран, проводящих или проводивших подобные реформы, и России. Причин для этого несколько: во-первых, ни один из выступавших перед реформой членов правительства и правительственных экспертов не дал реальной картины соотношения экономических, демографических и социальных процессов в российском государстве, которые бы обусловили обязательность обозначенного срока начала перехода к новому возрастному порогу выхода на пенсию. Во-вторых, обсуждение длилось слишком короткий период времени для принятия столь серьезного по масштабам и последствиям решения. В-третьих, руководители страны осознавали причины отрицательной реакции большинства населения, но по какой-то причине не провели достаточную предварительную подготовку общественного мнения к столь серьезным новациям в жизни населения и общества. В-четвертых, эксперты, которые готовили как сами поправки к закону, так и обоснование его срочной необходимости, проигнорировали опыт европейских стран1, которые прошли или все еще проходят подобное реформирование. Для сравнительного анализа выбраны 5 государств с высоким уровнем развития и разным уровнем замещения пенсий, и прежде всего ФРГ как федеративное социальное государство с уменьшающимся, как и в России, населением, значительной внешней миграцией и продолжающейся пенсионной реформой, включающей повышение возраста выхода на пенсию. Кроме того, пенсионная система Германии отличается от других стран ЕС и ОЭСР доминирующей ролью государственной системы2 [Ткаченко 2003: 32-33]. Любая пенсионная реформа требует предварительного просчета комплекса мер, надлежащих воплощению разными видами государственной политики, прежде всего социальной.
По образному выражению немецких ученых, сами споры о социальной политике постоянно обновляют главенствующее лицо Януса3 в социальной политике, делая ее всегда новой, и являются неотъемлемым ее элементом [Boeckh, Huster, Benz 2006: 23]. К сожалению, у нас недостаточно аргументированных споров и научных дискуссий о социальной политике, ярким примером чего являются последние нормативные акты, не улучшающие качество жизни лиц пожилого возраста. Основной довод руководителей страны – необходимость повышения размера пенсий, который не соответствует рекомендуемому Международной организацией труда (МОТ) уровню замещения. Скорее всего, это не просто совпадение, что вместе с принятием закона по вопросам пенсий Россия срочно ратифицировала конвенцию МОТ 1952 г. № 102 «Минимальные нормы социального обеспечения» 4, но не ратифицировала близкую по содержанию Конвенцию 1967 г. № 128 «Пособия по инвалидности и старости», содержащую более высокие нормы замещения пособий, в т.ч. по старости (пенсий по возрасту). Сразу же отметим, что отечественные СМИ плохо знакомы с международной терминологией, поэтому они предполагают, что в России не исключена замена распределительной пенсии на австралийские «пособия по старости», о которых говорил В. Мау5. Но это заблуждение – все виды наших пенсий и пособий в соответствии с терминологией МОТ называются пособиями ( benefit ); можно было бы это усвоить хотя бы накануне 100-летнего юбилея МОТ6. Обратимся к основному доводу сторонников повышения возраста выхода на пенсию, пугавших общество ростом нагрузки пожилыми [Кудрин, Гурвич, 2012], и рассмотрим не только существующую нагрузку, но и прогноз этого показателя.
Весь длительный период до 2050 г. положение России будет намного благоприятнее, чем у всех приведенных в табл. 1 стран, поэтому, несмотря на рост нагрузки, особых причин для столь пугающих высказываний у официальных экспертов не было. Более того, в 2075 г. нагрузка пожилыми в России даже снизится до 37,6 и будет ниже, чем у всех ведущих экономик мира, и даже более чем на треть ниже, чем в Китае (на 36%) и почти такой же, как в Индии (37,0). И в 2030, и в 2050 г. Россия останется страной с самой низкой нагрузкой пожилыми
Таблица 1
Прогноз нагрузки пожилыми людьми населения в трудоспособном возрасте *
|
2015 |
2025 |
2050 |
2075 |
|
|
Япония |
46,2 |
54,4 |
77,8 |
75,3 |
|
Германия |
34,8 |
41,4 |
59,2 |
63,1 |
|
Швеция |
33,8 |
38,2 |
45,5 |
51,6 |
|
Франция |
33,3 |
40,9 |
52,3 |
55,8 |
|
Великобритания |
31,0 |
35,9 |
48,0 |
53,0 |
|
Россия |
20,7 |
30,1 |
40,0 |
37,6 |
Примечание. Отношение численности лиц в возрасте 65 лет и старше на каждые 100 чел. трудоспособного возраста.
Источник: Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators. OECD 2017. Paris: OECD Publishing.
Р. 123.
людьми среди высокоразвитых государств1, не только приведенных в табл. 1, в которых заработная плата выше, чем в России в 5,6–7 раз (см. табл. 2), в то время как ВВП на душу населения выше только в 1,6–1,9 раза, что свидетельствует о низком уровне оплаты труда в российской экономике, что отражается и на пенсионном обеспечении. Посмотрим на обратный показатель числа трудоспособных на 1 пенсионера, также отражающий демографическое старение, и увидим, что уменьшение числа лиц трудоспособного возраста (20–64), приходящихся на каждого пожилого (65+)2, происходит и будет происходить во всех странах мира за исключением ряда стран Центральной (4), Восточной Африки (7) и еще 3 африканских стран. Но в России этот процесс не столь катастрофичен, как заявляли официальные эксперты и члены правительства, а, напротив, менее опасен, чем в других развитых странах. Не считая стран СНГ, которые близки России по структуре, только 4 европейские страны – Ирландия, Македония, Черногория и Люксембург – будут иметь в 2030 г.3 столь же благоприятное соотношение, как Россия: 3,0 или чуть больше трудоспособных на каждого пенсионера.
Это все было необходимо учитывать и взвешивать при разработке столь радикальных изменений в пенсионной системе, которая и так перманентно находится в состоянии попыток реформирования без учета интересов трех равноправных составляющих: общества, населения в пожилом возрасте4 и государства, формирующего и проводящего экономическую политику. В ходе выступлений представителей правительства с аргументацией причин столь неотложной необходимости повышения пенсионного возраста интересы общества в целом не упоминались и не анализировались. Даже теперь государственные органы продолжают комментировать воздействие принятого решения лишь на финансовое состояние ПФР1. К тому же Россия очень далека от высокоразвитых государств по соотношениям ВВП и ВНД (валового национального дохода) на душу населения. Во всех рассматриваемых странах ВНД превышает ВВП на 9–15% при социально ориентированной экономике и на 7,1% в Великобритании, в России же разница практически отсутствует – 0,50% (показатели 2017 г. с учетом ППС в постоянных ценах международного долл. 2011 г.)2. Вот здесь и лежит начало различий в воспроизводственных и распределительных процессах высокоразвитых стран и России, последовательно приводящих к столь низкому уровню средней заработной платы, средних доходов и пенсий в российском обществе, не соответствующему уровню ВВП на душу населения.
Наиболее корректным для международных сравнений душевых доходов населения, где необходимо для сравнения учитывать целую группу факторов, считается атлас-метод (The World Bank Atlas Method)3. По показателю дохода на душу населения Россия отстает от первых стран с максимальным доходом в 8,7–8,2 раза (Швейцария и Швеция) и в 4,6 раза – от группы стран, сравнительный анализ с которыми приведен в статье. Исходя из данных ВНД на душу населения по этому методу, российское правительство выбрало очень неподходящий год для повышения пенсионного возраста, т.к. предшествующий 2017 г. был годом падения этого показателя на 5% по сравнению с 2016 г.4, что не могло не ощутить на себе население, несмотря на публикацию данных о рекордно низкой инфляции (2,5%). Поэтому надо было бы сначала восстановить положительную динамику реального показателя подушевых доходов, укрепить повышательный тренд, а уже затем переходить к радикальным реформам. По этой причине трудно согласиться с автором статьи в «Вопросах экономики», который в качестве аргумента приводит демографические условия, считая, что повышение пенсионного возраста «содействует сокращению дефицита рабочей силы и минимизирует риски возможной безработицы» [Медведев 2018: 19]5. Прежде всего, повышение возрастного порога не содействует росту как ВНД на душу населения, так и уровня российских пенсий. Кроме того, оно без предшествующей или хотя бы параллельной реформы рынка труда ведет к росту уровня безработицы среди 60–64-летних мужчин и 56–60-летних женщин. Вся реформа рынка труда в 2019 г. сведена нашими законодателями к увеличению минимальной величины пособия по безработице до 1 500 руб. в месяц, а максимальной – до 8 000 руб. с одновременной «компенсацией» этих затрат государства резким – в 4 раза – снижением срока выплаты пособия до 6 месяцев. Исключение сделано для лиц предпенсионного возраста, которые смогут получать пособие 12 месяцев в увеличенном размере – с возможным максимумом в 11 280 руб., но только при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Заметим, что размер минимального пособия составляет 13,4% прожиточного минимума трудоспособного населения6, максимального – 71,7% и предпенсионного – 101,1%. Таким образом, не вышедший на пенсию пожилой человек, потерявший работу – неважно, по каким причинам, – обре- чен законодателями на уровень жизни, почти равный черте бедности, хотя и выше его на 120 руб. Но если минимум индексировать хотя бы по официальной инфляции, то не позже середины 2019 г. и этот безработный с «максимальным» пособием окажется за чертой бедности.
Причины, по которым российское государство решилось на радикальное повышение пенсионного возраста, особенно мужчин, и отказалось от попытки сближения возраста выхода на пенсию мужчин и женщин, что было бы логично, исходя не только из большей продолжительности жизни женщин после выхода на пенсию (на 4,5 года), но и из необходимости гендерного равенства, довольно расплывчаты, а утверждение о снижении реального уровня пенсий, если не будет повышен возраст выхода на нее, противоречит мировой практике [Медведев 2018: 18]. Проблема низких страховых накоплений существует и в богатых странах, повысивших пенсионный возраст, но они решают ее иными методами. В январе 2018 г. в Германии для лиц с низкими доходами (менее 2 000 евро в месяц) введена субсидия по дополнительным взносам работодателей (от 240 до 480 евро в год)1 в профессиональные пенсионные схемы, т.к. сам работник с такой зарплатой не в состоянии им соответствовать. Но при этом введена и льгота для работодателей, т.к. 30% дополнительных взносов вычитаются из выплачиваемого ими налога на заработную плату. По-видимому, в нашей стране о таких схемах даже и не думали, поэтому и существует столь мизерная минимальная пенсия.
Также можно отметить, что в принятом законе и дебатах вокруг него, особенно со стороны официальных лиц, не поднимался вопрос о психологическом восприятии этого решения и социально-психологических последствиях для людей предпенсионного возраста – эта сторона воздействия даже не учитывалась. А, например, нидерландские ученые в течение 10 лет проводили специальное исследование категории пожилых работников в возрасте 50–64 лет, за которыми наблюдали с 2001 по 2011 г., и пришли к выводу о непосредственном влиянии психологических переменных и их заметной роли в формировании субъективной продолжительности жизни2 [Solinge, Henkens 2018].
Насколько озабоченность правительства демографической (старение населения), финансовой (дефицит пенсионного фонда) и экономической (рост нагрузки работающих пожилыми) проблемами вызвана объективными причинами? ОЭСР публикует сравнимую информацию, которая позволяет по сопоставимым данным сравнить Россию с развитыми странами мира, среди которых мы выбрали 5 стран3 с разными моделями экономического развития: от 4 социальных государств, отличающихся подходами к социальной политике и ее взаимоотношенями с экономической политикой, и страну с англосаксонской моделью, которая традиционно выступает за минимальную связь экономики и социальной защиты.
Необходимо учитывать, что в табл. 2 показатель ожидаемых лет жизни после выхода на пенсию измеряется исходя из эффективного (реального) возраста выхода, связанного с законами страны, но отражающего результаты решения самих работников о выходе на пенсию; кроме того, на показатель эффективного выхода влияет уровень нетто-коэффициента замещения (например, во Франции он вдвое выше российского).
Все 6 стран, включая Россию, придерживаются нормы, по которой коэффи циент заме щения при низком уровне зарплаты (0,5 средней) равен или значи-
Таблица 2
Основные индикаторы пенсионного обеспечения в странах ОЭСР и России в 2016 г.
|
Страны * |
Коэффициент замещения в % к средней зарплате (полная и половинная) |
Среднее число лет ожидаемой жизни после выхода на пенсию ** |
Средний заработок работника, долл. . *** в год |
||||
|
мужчины |
женщины |
||||||
|
0,5 |
1,0 |
0,5 |
1,0 |
мужчины |
женщины |
||
|
Франция |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
23,6 |
27,6 |
40 037,7 |
|
Германия |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
19,5 |
22,6 |
50 306,9 |
|
Япония |
47,8 |
34,6 |
47,8 |
34,6 |
15,5 |
21,1 |
43 691,7 |
|
Швеция |
55,8 |
55,8 |
55,8 |
55,8 |
18,7 |
21,9 |
46 453,1 |
|
Великобритания |
44,3 |
22,1 |
44,3 |
22,1 |
19,3 |
22,9 |
45 099,7 |
|
Россия1 |
46,1 |
33,7 |
41,0 |
28,6 |
13,12 |
17,6 |
7 197,2 |
Список литературы Станут ли российские пенсионеры богаче?
- Кудрин А., Гурвич Е. 2012. Старение населения и угроза бюджетного кризиса. -Вопросы экономики. № 3. С. 52-79
- Медведев Д.А. 2018. Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития. -Вопросы экономики. № 10. С. 5-28
- Ржаницына Л.С. 2017. Социальные бюджеты в системе программно-целевого бюджетирования в России -«бюджет пенсионера». -Вестник Института экономики Российской академии наук. № 4. С. 68-84
- Соловьев А.К. 2016. Государственное Управление пенсионным возрастом в условиях бюджетного кризиса. -Управление. Т. 4. № 3. С. 80-87
- Соловьев А.К. 2017. Анализ уровня бедности пенсионеров: региональные аспекты. -Финансовые исследования. № 1(54). С. 83-95