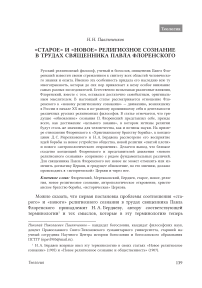"Старое" и "новое" религиозное сознание в трудах священника Павла Флоренского
Автор: Павлюченков Николай Николаевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (75), 2017 года.
Бесплатный доступ
Русский религиозный философ, ученый и богослов, священник Павел Флоренский известен своим стремлением к синтезу всех областей человеческого знания и опыта. Именно эта особенность придала его наследию всю ту многогранность, которая до сих пор привлекает к нему особое внимание самых разных исследователей. Естественно испытывая различные влияния, Флоренский, вместе с тем, оставался достаточно самобытным, оригинальным мыслителем. В настоящей статье рассматривается отношение Фло- \\ренского к «новому религиозному сознанию» - движению, возникшему в России в начале ХХ века и по-разному проявившему себя в деятельности различных русских религиозных философов. В статье отмечается, что грядущее «обновление» сознания П. Флоренский представлял себе, прежде всего, как достижение «цельного знания», в котором истины религии будут столь же значимы для человечества, как и истины науки. На примере отношения Флоренского к «Христианскому братству борьбы», к концепциям Д. С. Мережковского и Н. А. Бердяева рассмотрено его восприятие идей борьбы за новое устройство общества, новой религии «святой плоти» и нового «антропологического откровения». Делается вывод, что близкое сходство концепций Флоренского и представителей движения «нового религиозного сознания» сопряжено с рядом фундаментальных различий. Для священника Павла Флоренского все новое не может отменить или изменить догматику Церкви, и грядущее обновление, по его мнению, должно происходить в «исторической» Церкви и через нее.
Флоренский, мережковский, бердяев, старое, новое, религия, новое религиозное сознание, антропологическое откровение, христианское братство борьбы, "историческая" церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/140223430
IDR: 140223430
Текст научной статьи "Старое" и "новое" религиозное сознание в трудах священника Павла Флоренского
вкладываются. В двух своих критических статьях — «Стилизованное православие» (1914)2 и «Хомяков и священник Флоренский» (1917)3 — Бердяев оценил Флоренского как «нового» человека, не пожелавшего отказаться от многих прежних стереотипов в религиозном мышлении и таким образом погубившего, «убившего» в себе всю свою «новизну»4. В свою очередь, сам Флоренский, неизменно отвергая движение «нового религиозного сознания» в России начала ХХ века5, констатировал его определенную правоту, наличие в нем некоторых прозрений, отвечающих, по его мнению, тенденциям действительно наступающей новой эпохи в истории человечества и всего мира6.
Можно показать, что Бердяев и Флоренский по-разному воспринимали «старое» и «новое», прежде всего, вследствие своего различного подхода к «историческому» христианству и к «исторической» Церкви7. Флоренский находил в традиционном церковном Православии то, в чем ему Бердяев решительно отказывал и раскрывал как изначально церковное то, что считалось исключительной принадлежностью только людей «новой» эпохи, «нового» сознания. П. Флоренский не хотел выводить «новое» за пределы «исторической» Церкви и в этом аспекте своего творчества нашел себе как противников, так и сторонников. Так, например, архиепископ Серафим (Соболев) признал Флоренского «модернистом» по содержащейся у него в «Столпе и утверждении Истины» софиологии8, а Е. Н. Трубецкой, полагая софиологию «традиционной» для христианской церковной мысли, в целом, не нашел у Флоренского такой новизны, которая была бы призвана, в конечном итоге, не возобновлять, а изменять церковную традицию в угоду современным требованиям. В оценке Трубецкого то новое (по Трубецкому — «свое»), что есть в «Столпе и утверждении Истины» Флоренского, является талантливо представленным и тем самым вновь актуализированным старым. Это, по Трубецкому, — всегда существовавший в христианстве путь опытного богопознания, «возвещение» Фаворского света9.
Практически то же самое в творчестве Флоренского явилось главным и для С. И. Фуделя, который передал мнение близкого к его отцу — прот. Иосифу Фуделю — Федора Дмитриевича Самарина, который согласно этому свидетельству, «был взволнован явлением Флоренского и как нового мыслителя, и как личности» и воспринимал его «как некое новое средоточие в “золотой цепи русской мысли”»10. О какой именно новизне идет речь в данном случае, как представляется, можно судить по следующему замечательному пассажу: «Флоренский, — пишет С. И. Фудель, — открыл какое-то окно, и на наше религиозное сознание повеяло воздухом горнего мира. Живая вера живой души толкнула нас на путь опытного богопознания… Овладев всем вооружением научной и философской мысли, он вдруг как-то так повернул всю эту великую машину, что, казалось, она стоит покорно и радостно перед открытой дверью истинного познания «природы вещей». Этот «поворот» есть воцерковление нашей мысли, возвращение запуганной, сбитой с толку и обедневшей мысли к сокровищницам благодатного знания»11.
Но если «живой религиозный опыт как единственный законный способ познания догматов»12 действительно всегда был достоянием «исторической» Церкви и с отрицающим это Бердяевым, в данном случае, можно основательно спорить, то ряд других идей в религиозном сознании начала ХХ века по отношению к вероучению Церкви действительно были новыми . К числу наиболее известных из них относится само признание неполноты хранимой в Церкви Истины и, соответственно, ожидание скорого наступления эпохи нового откровения. Очевидно, что именно подобного рода ожидания в сочетании с верностью «исторической» Церкви, прежде всего и ставят вопрос о диалектике «старого» и «нового» в трудах П. Флоренского. С. И. Фудель, включивший черты («остатки») «нового религиозного сознания» в перечень «ошибок» или «недостатков»
Флоренского, заметил, что они, хотя и «очевидны», но «могут быть не замечены. Всякий человек должен оцениваться не по ошибкам и грехам, а по какому-нибудь своему духовному итогу. Корабль, идущий в море, расценивается по правильности своего общего курса, которым он следует к пристани. Если этот курс правильный, то мы одобряем корабль.., совершенно не считаясь с тем, что, может быть, были моменты, когда он уклонялся с пути»13. С такой точки зрения, «модернизм» Флоренского может быть назван «реставрацией», в целом, достигшей своих целей, но в частностях, все же использовавшей «новодел». И вопрос сводится к рассмотрению всей сложности пересечений и сочетаний (или, может быть, по выражению Флоренского, «сростаний») действительно традиционного («старого») направления его мысли и, с другой стороны, — действительно новых ее тенденций, особенно характерных для русской религиозной философии первых десятилетий ХХ века.
Такая постановка вопроса представляется не только более обоснованной, но и более перспективной для возможности получения значимых результатов исследования, поскольку в крайних точках зрения (Флоренский — «модернист», или Флоренский — безупречный выразитель «забытой» традиции) всегда больше субъективности и меньше внимания к отдельным фактам, которые в эти крайности не укладываются. Факты же заключаются в том, что, пребывая достаточно длительное время одновременно как в кругу деятелей «исторической» Церкви, так и в среде представителей «нового религиозного сознания», Флоренский нигде не оказался «своим». Более того, являясь одним из идеологов «братства», нацеленного на «новое» без разрыва со «старым», он оставил это движение в тот самый момент, когда его ближайшие друзья и единомышленники приступили к конкретной деятельности. С учетом этих обстоятельств, при ближайшем рассмотрении, тема влияния и воздействия «новых» религиозных идей на творчество Флоренского, сводится к выявлению и обсуждению причин, по которым, восприняв реформаторский (и, в этом смысле — «пророческий»14) импульс Владимира Соловьева, Флоренский не пожелал идти путями его последователей, так или иначе связанных с «новым религиозным сознанием». Это — пути социального переустройства («Христианское братство борьбы»), формирования «новой» церкви и создания религии «святой плоти» (З. Гиппиус и Д. С. Мережковский), а также движения к свободному творческому, «антропологическому» откровению (Н. А. Бердяев). Хронологические рамки рассмотрения целесообразно ограничить этапом окончательного формирования творческой личности Флоренского, начавшимся в год его поступления в Московский университет (1900) и завершившимся публикацией полного варианта «Столпа и утверждения Истины» (1914) и выступлением с критической оценкой философско-богословского наследия А. С. Хомякова (1916).
-
I. П. Флоренский и «Христианское братство борьбы»
В существующей аналитической литературе деятельность «Христианского братства борьбы» — организации, созданной В. Ф. Эрном и В. П. Свенцицким в феврале 1905 г. и просуществовавшей до середины 1907 г. — обычно ставится в политический контекст и связывается с революционными событиями, развернувшимися в России. Это имеет свои основания, поскольку в самом проекте краткой программы «братства» оно было названо первой попыткой создать в России христианскую политическую организацию15.
Вместе с тем, «братство» не просто декларировало религиозные (и конкретно — христианские) основания своих целей, а имело вполне определенную религиозно-философскую программу, в которой, по сути, заключалось все, что соединяло наследие В. Соловьева с «новым религиозным сознанием». Прежде всего, это, конечно, ожидание грядущих радикальных перемен: «Мы вступаем, было сказано в пункте 10 программы, — в окончательный, апокалиптический период всемирной истории», когда, согласно пункту 7, «Церковь откроется верующим, как Невеста Христова, готовящаяся к браку с Господином своим»16.
Члены «братства» должны были «найти конкретные пути», чтобы «при содействии Духа Святого положить начало концу — концу господства зла и смерти»17. Поиск форм «христианского общественного служения», создание «христианской общественности» и т. п. социальные задачи представлялись, как и у В. Соловьева, в качестве необходимой составляющей христианского прогресса, который есть «прогресс богочеловеческий»18. «В центре всего, — писал В. П. Свенциц-кий в 1905 г., — для братства стоит Христос, Вселенская Церковь… Идея Богочеловечества… положена в основу деятельности Братства»19.
Очень существенная часть этой, изложенной в 1905 г. программы «братства» действительно была близка Флоренскому. Именно с намерением включиться в указанную В. Соловьевым работу («борьбу») для наступления новой эпохи, он, вместе с друзьями по Тифлисской гимназии, А. Ельчаниновым и В. Эрном, ехал в 1900 г. учиться в столичный университет. Именно себя и своих старых и новых друзей — будущих членов «братства», в статье 1904 г. он называл «новыми мистиками», которые, хотя и «по разным тропинкам и с разных сторон», но вышли к «вершине» и сошлись в едином «высшем принципе», который есть Христос20.
В написанном в том же, 1904 г. и посвященном А. Ельчанинову диалоге, после определения «абсолютного мировоззрения» как «кафолического» (т. е., очевидно, в данном случае, по Соловьеву — «вселенского») христианства21, речь почти сразу заходит о Христе и подчеркивается важность правильного понимания Его Богочеловечества: «Не Божеское вытекает из эмпирического, а, наоборот, эмпирическое является обнаружением Божеского»22. «Иисус Христос не сделался богом, а был Истинным Богом, оставаясь в то же время и человеком. Миссия его была мистическая, а не общественная или какая-нибудь в этом роде»23. Первое студенческое сочинение Флоренского в МДА в конце 1904 г., в числе прочего, было направлено на поиск причин, по которым Христос и само событие Боговоплощения не оказались в центре метафизической системы Оригена24, а следующее сочинение, датированное 1906-м г., в полной мере раскрывал живой богословский интерес П. Флоренского к темам Вселенской Церкви и Богочеловечества25.
То же самое можно проследить по письмам Флоренского, написанным в период 1900–1907 гг., в которых, кроме того, отражено и ожидание грядущих и очень скорых радикальных мировых перемен. Но из писем можно видеть, что наиболее характерные подобные ожидания у П. Флоренского с самого начала связываются не с созданием «христианской общественности», а с достижением «цельного знания». Так, например, в письме отцу 25 октября «признаки чего-то нового» характеризуются у него движением духовных лиц к науке, а ученых — в сторону религии. Философия выступает здесь соединительным звеном для этих встречных движений, причем везде, и в философии в том числе, «догматики, буквалисты» постепенно уходят в тень26. Соотнесение свидетельств из разных писем 1900 г. показывает, что «догматизм» уже в это время для Флоренского является синонимом тех «отвлеченных начал», которые критиковал Соловьев.
«Догматизм», согласно Флоренскому, лишен «внутренней свободы»27, он грубеет, «деревенеет, сохнет и человек превращается в какую-то мумию»28. Именно «догматизм» насаждает чисто теоретическую, не обсуждаемую веру, вследствие чего, в условиях господства позитивизма, религия вынуждена в человеческом сознании и в человеческой деятельности «строить себе отдельное, изолированное помещение»29. Но позитивизм уже выполнил свою миссию: он «внушил уважение к факту» и теперь тоже должен уйти со сцены30. П. Флоренского можно понять так, что теперь наступает время, когда и в религии нужно оперировать фактами, имеющими такое же значение, как в науке, и размышлять, рассуждать, как это имеет место в философии. Покончить с порабощающей и умерщвляющей человеческое сознание «отвлеченностью» должна максимально конкретная, точная наука — математика («ключ к мировоззрению») и тогда, при искомом синтезе науки, философии и религии последняя получит «совершенно особенный смысл» и найдет себе «соответственное место в целом»31.
Из других, достаточно многочисленных свидетельств, также можно видеть присущие Флоренскому особенности, не только сближающие, но, в гораздо большей степени, разделяющие его направление с направлением, принятым «братством» в 1905 г. Ключевым здесь является 1904 г., вернее, те планы и средоточия деятельности, которые намечались П. Флоренским в это время. Именно в этом году (т. е. еще до всколыхнувших российскую «общественность» событий января 1905 г.), если не возникла, то, во всяком случае, начала обретать реальность сама идея «братства», в замысле которого Флоренский принимал ведущее участие. В частности, 7 ноября 1904 г. он писал Эрну из Академии о своих контактах, направленных на отбор будущих членов организации32. «Много работы обязательной, — пишет он 25 октября 1904 г., — а еще больше деятельности, потому что многих можно собрать к себе»33.
Также из этой ранней переписки с Эрном можно видеть, как Флоренский представлял себе само будущее «братства» и его деятельность. П. Флоренский представляет, как С. С. Троицкий и он, будучи, соответственно, священником и диаконом, идут с антиминсом для совершения Божественной Литургии. Другие члены «братства»34 также сходятся, «из своих приходов в соседних деревнях»; они часто собираются «для совместных обсуждений, для редакционных заседаний, для чтений» и все это, как можно думать, завершается или предваряется совершением таинства Евхаристии, причем — не самочинно (присутствует антиминс) и не в каком-либо исключительном порядке (поскольку «братья» вне сходок живут каждый в своем сельском приходе).
Сам Флоренский думает о себе, что периодически, в процессе такой деятельности «братства», будет «довольно часто» уходить из своей деревни «странствовать и проповедовать “лето Господне благоприят-ное”»35. Интересно отметить, как П. Флоренский делится с Эрном своей сокровенной потребностью в церковной и домашней совместной молитве и почти не скрывает, что хотел бы сделать такую молитву основополагающей для деятельности всего «братства»36. Свой опыт совместного св. Причастия с С. Троицким в скиту близ Троице-Сергиевой Лавры он передает как ощущение установления вечной связи, которую «не может порвать ничто эмпирическое»37.
Для Флоренского, безусловно, важна «эмпирия», важна деятельность в видимом, эмпирическом мире, где, собственно, и должен достигаться его, заимствованный у В. Соловьева, идеал «цельного знания». Но, вместе с тем, он слишком отчетливо переживает опыт эмпирии как реальности «уплывающих», проходящих и уходящих «личин», среди которых, может быть, дальше всего «уплывает» и его собственное «я».
И при этом, по тем же ощущениям, в нем есть некое «Я» (высшее или «истинное» «Я», впервые в религиозно-философском ключе обозначенное Флоренским в работе «О типах возрастания» в 1904 г.38), в которое из эмпирии «входишь таким малым, со смирением…» «Так уж самим Богом устроено», — заключает он описание своих переживаний в другом письме, написанном, вероятно, уже в 1905 г.39 Это — ощущение Божественной данности такого устройства Бытия, когда через видимое можно погружаться в невидимое; не исключением, в этом отношении, становится и восприятие самого эмпирического человеческого я, «за» которым в мистическом опыте можно уловить некую более «высокую», а главное, — для Флоренского, — постоянную , лишенную субъективности и «психологизмов», Реальность40.
Именно в исследованиях, начатых (или задуманных) Флоренским в 1904–1905 гг., получит свое философско-богословское оформление его символизм, представленный сначала — в виде софиологии («Столп и утверждение Истины», 1908–1914), а затем — с точки зрения всестороннего осмысления самого «символического» устройства бытия (лекции 1918–1922 гг.). В июне 1904 г. П. Флоренский сообщал А. Белому о подготовке своего «большого сочинения», построенного «на понятии сим-вола»41; в сентябре 1905 г. эти планы уже обрели конкретность и представлены как замысел работы о «Софии», статей об «Ангелах», «О свете от святых» и др.42 «Хочу, — писал Флоренский Эрну, — главное внимание обратить на принципиальные вопросы о христианстве и язычестве, о символах, мифах ets… — идей, давно ждущих случая, чтобы вылиться. Быть может, это нам пригодиться как-нибудь»43.
Между тем, настроение членов «братства», формально созданного под влиянием январских событий 1905 г., оказывается существенно иным и Флоренский постепенно, но необратимо отходит от участия в его «борьбе»44. От главного идеолога «братства» В. П. Свенцицкого в это время исходит совсем иное понимание «истинной церковной жизни», чем та идиллическая картина общественного служения, совместной молитвы и св. Причастия, представлявшаяся в мечтах П. Флоренскому.
«Правда о земле», т. е., согласно Свенцицкому, — еще не раскрытая суть христианского учения об общественном служении Церкви, — при прежней риторике об активном проведении «в жизнь начал вселенского христианства» и осуществления «вселенской правды Богочеловече-ства»45, — обратилась в идею освобождения русского народа «от цепей» самодержавия, преодоления трех «грехов» — любви к «кесарю» больше, чем к Богу, «поглощения» Церкви государством и войны на Дальнем Востоке46. «Царь ослеп от своей власти и восстал на Царя Небесного», — писал Свенцицкий47 и от имени «братства» ставил задачу «уничтожить в народе языческое отношение к власти, к царю как помазаннику Божию». Именно такое отношение к власти признается Свенцицким
«одной из главных причин паралича Церкви»48 и, очевидно, — всей церковной жизни.
Непосредственная реакция Флоренского на эту программу, по вполне понятным причинам, осталась незафиксированной в письменных источниках, но ее не трудно предугадать, исходя из всегда существовавшего для него примата онтологической данности духовной реальностей, в число которых, наряду с Церковью, очевидно, всегда входила и актуализируемая через Церковь власть Царя как Помазанника Божия. К сожалению, не была написана (или, что менее вероятно, — не сохранилась) работа «Первое начало философии о. Серапиона», которую П. Флоренский в сентябре 1905 г. анонсировал Эрну как написанное без использования источников49 «изложение новой фазы» своего «религиозного развития». «Тут снят вопрос, — писал Флоренский, — из-за которого я поссорился с Соловьевым: он только в последний, кажется, год понял этот вопрос, а до тех пор, по-видимому, не замечал его»50. По всей видимости, речь идет именно о той самой идее устроения теократии людьми, которая, как напишет П. Флоренский чуть позже, «в ясной форме или чуть видимой струйкой проползает у Соловьева повсюду» и делает «отравленными» все его сочинения, кроме «Трех разговоров» и «Повести об антихристе»51.
При всей своей лаконичности, эти свидетельства содержат вполне ясные указания на тот порог, за который Флоренский не был намерен переступать ни в своем соловьевстве, ни в приверженности «новому религиозному сознанию», ни в своих планах служить делу построения «христианской общественности» и реализации христианской «правды земли». «Возбудить в массе жизнь» в процессе религиозного возрождения общества52 для него никак не означало коренного переустройства по человеческому усмотрению тех эмпирических реальностей, которые он и в государстве, как и в Церкви, видел укоренными в объективно данной вечности. Замысел «произвести синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с Церковью»53 предполагал не революционное переустройство «земли», а преображение «земли» через ее ориентацию на «небо».
Именно с таких позиций в письмах Флоренского к Эрну звучат нотки разочарования, формально, — в некоторых положениях одной из статей Эрна, а фактически, — в деятельности всего «братства». «Центр тяжести, — пишет он, — настолько перекосился в известную практику, в приближенный и временный способ реализации христианского сознания, что незаметно для Вас он делается безусловным и вечным»54. «… Деятельность Вас всех? Да, мило, хорошо, — пишет Флоренский в октябре 1906 г., — но именно мило — не свято. Я это не в смысле упрека говорю, напротив, с ласкою. Мое несчастье, что я не перевариваю революционеров и их теорий и пр.»55
Примечательно, что за полгода до этого в известной проповеди Флоренского, сказанной в Покровском храме МДА 12 марта 1906 г. и нелегально изданной под названием «Вопль крови», содержалась та же интонация и те же призывы, что и в листовках, распространяемых в этот период «братством»56: «Волны крови заполняют родину, — говорил Флоренский-студент с амвона. — Тысячами гибнут сыны ее — вешаются, расстреливаются, тысячами переполняют тюрьмы… Людей, неимущих куска хлеба, расстреливает живущий за счет их трудов. Женщин и детей … насилуют, оскорбляют на каждом шагу. Издеваются в безумном озверении».
Флоренский подчеркивал, что совершаются убийства «медленно-обдуманные, хладнокровные», а «архипастыри наши молчат, будто не их дело обличать виновных детей церкви…» «Церковь православная опять не остановила кровопролития, опять — и это на Крестопоклонной Неделе! — промолчала. Церковь — самое дорогое, что есть для нас на земле, — мост к небу; и он оказался непроходимым»57. Но по отношению к листовкам «братства»
у П. Флоренского оказывается существенно усиленным «сверх-эмпири-ческий» момент происходящего: смертные казни — это «человеческое предварение суда Божия», обрывающее возможность покаяния; «каждый выстрел направлен в тело Христово»; в выносимую за Литургией св. Чашу падает «тяжелая капля крови» и т. п.58
Можно видеть, что Флоренский вполне согласен с восприятием «братством» текущего, эмпирического состояния Церкви, но смотрит при этом дальше и глубже и не готов поддаться, как кажется, почти всеобщему революционному настрою российской интеллигенции и студенчества. Образ ставшего непроходимым «моста» от «земли» на «небо» из проповеди П. Флоренского и по контексту, и по глубокому его смыслу, не адекватен тому образу «паралича» Церкви, который представил в своей программе «Братства» Свенцицкий.
«Мост » могут сделать непроходимым грязь и мусор, которые можно расчистить и пройти к неповрежденной святыне, а «паралич» предполагает угрозу общего умерщвления, наличие некоей смертельной болезни, которая, возможно, не сможет быть исцеленной. В крайне тревожное и нестабильное время формального существования «Христианского братства борьбы», — 1905–1907 гг., — из всех его членов только Флоренский, по крайней мере, в дошедших до нас свидетельствах, представляется «метафизически» спокойным, обладающим определенным, глубоким внутреннем стержнем, обретенным, очевидно, в опыте познания непоколебимой из эмпирии святыни Церкви.
Готовясь к написанию сочинения, построенного «на понятии символа» и, в этой связи, обратившись к данным археологии, Флоренский, согласно его письму А. Белому в середине 1904 г., был «охвачен… потоком свежих прозрачных переживаний христиан первых веков». У него, очевидно, рассеялись сомнения в том, что тот Христос, знание и опыт Которого донесла до начала ХХ века «историческая» Церковь, — это Тот самый, «которого знали древние христиане»59.
Затем, в феврале 1905 г. он делает несколько записей, из которых одна выражает ощущение от прочитанного в книгах, а другая, очевидно, — от пережитого опыта. В первой: «Христианские катакомбы в Риме. Прохладность и спокойная радость»; во второй: «Мощи св. Сергия и другие мощи. Впечатление тихой радости от них. Кругом — революция и сутолока. Жирные монахи. Но от них благодатность и тихость»60. И это — не только ощущение «правды земли», познаваемой в спокойном, внутренне умиротворяющем созерцании у св. мощей; Флоренскому открывается в Церкви ее главное средоточие, по отношению к которому все «человеческое» (включая, разумеется, и не достоинство наличных архипастырей) — как смываемая «кора грязи».
«Я зашел внутрь всех скорлуп, — писал Флоренский А. Белому в июле 1905 г., — стал по ту сторону недостатков. Для меня открылась жизнь, … открылась безусловно святая сердцевина. И тогда я понял, что уже не выйду оттуда, откуда увидел все это… Если я виноват, … что воспринимаю жизнь и святость за толстой корой грязи (которая для меня, может быть, кажется гораздо толще, чем для других, потому что она делает мне больно ), … то я действительно виноват перед всеми, кто расходится со мною»61. Это письмо обычно воспринимается как объяснение, данное П. Флоренским по поводу своего расхождения с Мережковскими, но, по существу, оно может быть связано и с актуальными для него тогда вопросами деятельности «братства», готового погрузиться в «революцию и сутолоку» и все более обнаруживающего свою неспособность к тому, чем с самого начала жил и дорожил Флоренский — к «символическому» миросозерцанию.
-
II. П. Флоренский и Д. Мережковский
С проживающими в Петербурге Мережковскими Флоренского познакомил А. Ельчанинов, учившийся в 1900–1904 гг. в Петербургском университете. Он же передавал П. Флоренскому информацию о ходе организованных Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус «Религиозно-философских собраний» в Петербурге и он же, фактически, явился инициатором и посредником осуществления публикаций двух статей Флоренского в «Новом пути»62. «Мы оба, — т. е. я и Д. С., — писала З. Гиппиус Флоренскому 24 февраля 1904 г. из Петербурга, — большие поклонники кое-чего, что в вас есть. Ваши статьи всегда с радостью печатаем. Скоро будем в Москве и хотели бы поз накомиться с Вами лично»63.
Основной целью созданного Мережковскими в 1902 г. журнала «Новый путь» была публикация протоколов «Религиозно-философских собраний», тематика которых, так или иначе, с подачи их организаторов, вращалась вокруг идей «нового религиозного сознания». Сама З. Н. Гиппиус вспоминала, как на первом же собрании, 29 ноября 1901 г. профессор В. Тернавцев говорил о «возрождении» России на религиозной почве и о том, что «наступает время открыть сокровенную в Христианстве правду о Земле», «все небесное и земное соединить под главою Христа»64. С этих позиций «историческая» Церковь оценивалась как замкнутая на «один лишь загробный идеал», испытавшая и не преодолевшая «монашеский уклон», характеризуемый как «аскетическая неправда», лишающая «историческую» Церковь не только возможности освящения мира («земли»), но и, по мысли Д. Мережковского, достижения идеала «святой плоти».
Генезис подобного рода идей обычно возводят к Ф. Ницше (антитеза христианство — эллинизм, «святость духа» — «святость плоти») и, в данном случае, можно было обсуждать две возможности: либо открывается то, что до сих пор было «сокровенно» в самом христианстве, либо требуется преодоление христианства как такового, уже как пройденный этап, не вместимый в новую религию. Сам Мережковский явно склонялся в пользу второго варианта. «Третья ступень, — писал он в 1908 г., — откровение третьей ипостаси — будет окончательным синтезом тезиса и антитезиса, объекта и субъекта, плоти и духа, последним соединением первого Царства Отчего и второго Сыновнего — в третьем Царстве Духа Святого, плоти святой. Третий Завет будет откровение трех в едином. Ныне религиозное сознание человечества и восходит на эту ступень. Христианство кончается, потому что оно до конца «исполнилось», подобно тому, как «закон и пророки» окончились с пришествием Христа. Христос не нарушил, а исполнил закон. И Дух не нарушит, а исполнит христианство »65.
Как бы там ни было, с позиции Мережковских и людей их круга, отвергалась «историческая» христианская Церковь, не жизнеспособность которой в «новую» эпоху и были призваны продемонстрировать «Религиозно-философские собрания»66. Много лет спустя в своих воспоминаниях З. Гиппиус фактически подтвердила, что ни через эти «собрания», ни каким-то иным образом, сами Мережковские вход в Церковь не искали, по крайней мере — с октября 1899 г., когда они для себя окончательно выяснили, что «Церковь нужна как лик религии евангельской, христианской религии Плоти и Крови. Существующая Церковь не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких по вре-мени»67. «Религии отречения, аскетизма, одиночества, — писала Гиппиус, — противится наше углубленное сознание, которое видит, что в природе человеческой, рядом с желанием Бога лежит желание жизни, и мы хотим религии, которая бы оправдала, освятила, приняла жизнь»68.
И, параллельно с началом «Религиозно-философских собраний», Мережковские начали свои «богослужения» у себя на квартире (Литейный проспект, 24), отметив Рождество 1901 г. «причастием» в ночь с 24 на 25 декабря69, создав таким образом ту новую, свою «церковь», которую хотели . В эту новую деятельность посвящались лишь немногие, близкие по духу Мережковским, лица (В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, П. П. Перцов, А. Н. Бенуа, А. В. Карташев и др.), однако и без широкой огласки этой информации суть предлагаемой «новизны» была столь явна, что вызвала, как известно, реакцию о. Иоанна Кронштадтского, противопоставившего «Новый путь» единому пути, истине и жизни, который есть Христос (Ин. 14, 6). В словах о. Иоанна сопоставлялись именно данность «пути» и человеческое желание найти «путь» другой : «… хотят найти другой путь…; не хотят веровать в то, что веками установлено, Самим Богом открыто и возвещено, отвергают Церковь, таинства, руководство священнослужителей и даже выдумали журнал “Новый путь”. Этот журнал задался целью искать Бога, как будто Господь не явился людям и не поведал нам истинного пути»70.
И в этой связи, конечно, нельзя не заметить, что, занимая, по существу, сходную с о. Иоанном Кронштадтским позицию относительно данности единого истинного «пути», Флоренский примерно за три недели до проповеди о. Иоанна71 высказался о «Новом пути» иначе. «Журнал
“Новый путь”, — писал он сестре Юлии, — … имеет целью дать высказаться вновь зарождающимся течениям мысли, преимущественно религиозной… Но не думаю, чтобы дело этого журнала пошло успешно; мне кажется, он так сказать, слишком искренен и слишком доверчиво раскрывает свои воззрения перед публикой: такой тон пригоден для дружеской беседы. А не для журнала… Я-то во всяком случае желаю ему успеха, хотя не могу сознаться, что в нем допущены значительные промахи»72.
П. Флоренский готов был сотрудничать с Мережковскими и это сотрудничество продолжалось практически до самого закрытия их журнала. Внимательное знакомство его с произведениями самого Мережковского в этот период подтверждается фактом отправки письма (к сожалению, не сохранившегося) с отзывом на его роман, предположительно — «Петр и Алексей»73.
Остались не зафиксированными время и обстоятельства, при которых Флоренскому стали известными факты «интимно-религиозной жизни» Мережковских совместно с Д. В. Философовым74. Игумен Андроник (Трубачев) предполагает, что информация поступила в январе 1905 г. от А. Белого75, который, приезжая в Петербург, участвовал в этих «богослужениях»76 и хотел привлечь к ним Флоренского. В апреле 1905 г. П. Флоренский из Сергиева Посада ездил в Москву для встречи с приехавшими туда Мережковскими, но встреча не состоялась и сразу же после этого он написал черновик своего письма, в котором подчеркивал определяющее значение для себя нераздельно воспринимаемых «православия» и «исторической» Церкви77. «Я не хочу и не могу таить от Вас, — писал Флоренский, — что подозрения вызывали враждебность.
Теперь, победив и то, и другое, я могу сказать, что предметом подозрений была Ваша интимно-религиозная жизнь, таинства… Ну, допустим, у Вас есть своя Церковь. Но разве я знаю что-нибудь, допустимо или недопустимо это для Вас? Разве я знаю, спасет это Вас или погубит? Для меня ясно только то, что я должен быть в православии и должен бороться за него. Если Вы будете нападать на него, то б<ыть> м<ожет> я буду бороться с Вами. Но я не говорю и, надеюсь, не скажу, что Вы — не правы, как не скажу, что я — не прав. М<ожет> б<ыть>, у Вас есть своя миссия, которой мне не дано знать»78.
Весьма характерным представляется то место из написанного полтора года спустя письма Гиппиус А. Белому, в котором она просила побудить Флоренского к написанию воззвания к народу по подобию произнесенной им в марте 1906 г. проповеди «Вопль крови». «Ведь это была проповедь, — писала она, — уже не в старой, а в новой, нашей Церкви. Неужели он этого не осознал и теперь?»79 Фактически, это — сожаление относительно того, что человек «нового сознания» отошел от них и потому не может себя реализовать, что держится за «старую» Церковь.
Как известно, «воззвание к народу» у П. Флоренского получилось, но не такого свойства, как ждала Гиппиус. То, что он начинал делать, у многих (и, особенно, у Н. Бердяева) со «старой» Церковью никак не ассоциировалось, но позиция самого Флоренского в этом отношении всегда была однозначной: он не насаждает искусственно «новое» в «старое» (или наоборот), а открывает «новое» в «старом», как давно, изначально там бывшее, поддающееся временному забвению, но никогда не могущее быть окончательно утраченным. Это — прямая, непосредственная связь церковных догматов с религиозным опытом. За «воззванием» к ученым богословам — «насытить» догматические схемы книжными и собственными свидетельствами живого опыта («Догматизм и догматика», 1906) последовало «воззвание» к церковному народу и священникам — раскрыть личный опыт переживания церковных таинств («Вопросы религиозного самопознания», 1907).
В «Догматизме и догматике» — проекте, предложенном, несомненно, в числе прочего, в качестве альтернативы теории «догматического развития», содержалась апелляция к «новому» человеку, который не удовлетворяется более отвлеченными понятиями о Боге и которому для веры, или, точнее, для действительной религиозной жизни, нужно опытное богопознание. Вопреки Мережковскому, у которого «новое сознание» возникает на исходе эпохи «исторического» христианства, здесь «новое сознание» само есть плод «исторического» христианства, это — «сознание христианское», результат «великой революции духа», внесенной в мир почти две тысячи лет назад Христом80.
С этой точки зрения, нынешняя «новизна» — это лишь реакция самого христианского сознания, которое, на определенном историческом этапе потеряло ориентиры опытной веры как встречи с Богом. И если «историческая» Церковь ныне не дает такие ориентиры, то только потому, что преподаваемая в ней догматика сменилась «догматизмом»81. Живой религиозный опыт никуда не делся; он остался в традиции и должен продолжаться в современной церковной жизни. Но преподаваемая и открываемая миру догматика «выдохнула аромат личного религиозного опыта, система религиозных понятий перестала быть убедительной для отвергающих ее и привлекательной для принима-ющих»82. Это — метаморфоза, случившаяся в самой «исторической» Церкви и в самой же «исторической» Церкви она исправима; более того, само же «новое» — христианское — сознание, всегда живущее в Церкви, этого исправления и требует.
Из того, что П. Флоренский начал делать далее, создается впечатление следующего хода его мысли: живой религиозный опыт и в современной жизни нынешней, «исторической» Церкви пребывает, но как «святыня под спудом». Он должен быть актуализирован, а для этого — должен быть, по крайней мере, осознан самими членами Церкви83. «Сейчас положение слишком тяжелое, — писал Флоренский, обращаясь к церковному «народу» со страниц издаваемого ректором МДА еп. Евдокимом (Мещерским) журнала «Христианин» в 1907 г., — мы говорим не о политическом положении, которое всегда можно исправить, а о более важном положении религиозном, которое может оказаться непоправимым. Нам надо честно подсчитать свой флот и тщательно осмотреть свои корабли.
Иначе при ближайшей буре мы рискуем пойти ко дну. А она уже надвигается на нас»84.
Напрашивается предположение, что вряд ли эти примечательные слова сказаны вне связи с идеей Мережковского о преодолении новым сознанием «исторического» христианства. Это новое сознание , по мысли П. Флоренского, потеряв связь со своим первоисточником, поднимает «бурю» и действительно может для себя «преодолеть» «историческую» Церковь, если этот первоисточник в ней не будет обретен вновь. И нужно показать то, «о чем менее всего любят говорить наши богословы», а именно: «Христианство — не археология, а живая жизнь, вечно развивающаяся в целом организме человечества. И в наших душах («разве только мы не то, чем должны быть» <2 Кор. 13, 5>) Христос продолжает ту духовную работу, которую Он совершил в душах наших предшествен-ников-христиан»85. Для Флоренского в данном случае важно именно то, что больнее и сокрушительнее всего ударит по концепции Д. Мережковского: выявленный конкретный опыт переживания таинств, совершаемых в «исторической» Церкви86.
До закрытия журнала «Христианин» ему удалось собрать и опубликовать лишь небольшой фактический материал, в том числе и свидетельство некоего «священника Д. Г. Т.» Исходя из конкретного своего опыта он ответил на представленный Флоренским тезис идеологов «нового религиозного сознания», — взгляд относительно современного состояния Церкви: «Не видно стяжавших Духа в среде христиан, не чувствуется действующей силы в них»87 — «Приди и виждь», отвечал «Д. Г. Т.», «Разгреби золу и увидишь огонь, он всегда старается укрыться, таково свойство огня Христова»88. Без всякой внешней связи с какой-либо полемикой против Мережковского, просто по факту, Флоренский, таким образом, показывал то, чего, по его мнению, не увидел Мережковский в «историческом» христианстве и в «исторической» Церкви.
А еще через год, в своем выпускном сочинении в МДА («О Религиозной Истине», 1908), которое затем легло в основу «Столпа и утверждения Истины», Флоренский представил свой ответ на запрос о «правде земли» в том его виде, как он выразился в статьях Мережковского. «Повторяю и настаиваю, — писал, в частности, Мережковский в 1908 г., — отвержение плоти вовсе не временная ошибка, которую христианство может исправить, а вечный предел, который ему нельзя переступить»89. Аскетическое, то есть, по Мережковскому, подлинное христианство («догматический спиритуализм») и современная культура («догматический материализм») «обоюдно непроницаемы: между ними возможно не соединение, а только смешение. Но к соединению Св. Духа со святою плотью ближе не святая плоть вне христианского человечества, чем бесплотная святость христианства»90. Так же, как и в предыдущих случаях, не называя прямо Мережковского, П. Флоренский пытается опровергнуть, прежде всего, именно его восприятие христианского аскетизма как непримиримой «борьбы духа с плотью» и демонизации плоти91.
Именно в этом контексте он (так же, как в «Догматизме и догматике» относительно потребности «нового человека» в опыте встречи с Богом) возводит не к началу ХХ века с его «новым сознанием», а к самому появлению христианства «невиданную ранее влюбленность в тварь»92 и идею «святого тела». «Интеллигенты, — пишет он, — упрекают церковное жизнепонимание в метафизическом дуализме, а сами не замечают, что ложь дуализма сваливают с себя на Церковь. Между тем, свято-отеческое богословие в высшей степени определенно раскрывает ту истину, что вечная жизнь — жизнь не души только, но вместе и тела»93. Фактически, соглашаясь с тем, что освящение тела связано с «духо-носностью», Флоренский указывает, что именно эта «духо-носность» и есть в церковной аскетике: «Аскетизм, как историческое явление, есть непосредственное продолжение хариз-матизма; … связь духо-носности и подвижничества несомненна»94.
Впрочем, напрашивающегося здесь вывода о полноте пребывания Св. Духа в «исторической» Церкви Флоренский не делает, будучи убежденным, что именно в ожидании этой грядущей полноты и есть определенная «правда» «нового религиозного сознания». Но все другое в Мережковском он отвергает, в том числе, — как ни странно, — и сам «эллинизм» как таковой, как некое самостоятельное начало, выражающее идеал «плоти» в противоположность христианскому идеалу «духа». Этот вывод может показаться неожиданным в связи с тем, что П. Флоренский, очевидно, испытав сильное влияние Вячеслава Иванова, неоднократно свидетельствовал свою тягу к «эллинизму» и даже называл себя «эллином»95.
В его рабочем кабинете в доме в Сергиевом Посаде, помимо икон и картин, на месте, где могли бы быть другие иконы и картины, висели изображения античных скульптур, выражающие красоту «плоти», как эту красоту понимали в античности. В одном месте из переписки с В. Розановым Флоренский пояснил, чем именно привлекали его эти изображения: «… Греческая скульптура. Меня она мучает сладкою болью с самого детства… То, что манит в греческой скульптуре, совсем по-иному, совсем неприводимо рационально в этому, явилось выраженным полностью во Христе. Я не хочу говорить догматически, — передаю просто то, что чувствую. А именно: Христос — не «идеал», не «идея», а плоть . Но эта плоть, — живая плоть — свята, пресуществлена… Только во Христе я вижу, чувствую, щупаю, вкушаю реальность, «транссубъективное», а зачатки этой реальности нахожу в греческой скульптуре»96.
Все это говорит о той же «новизне сознания», которая, как и у Мережковского, рождает потребность в «святой плоти», но, обладая иной мотивацией своих поисков, Флоренский приходит и к другим, — относительно Мережковского, — выводам. Собственно, и само «символическое миропонимание» П. Флоренского — это результат его борьбы с «субъективизмом», к которому для него сводились и все представления о чисто духовных реальностях. Флоренский шел к созданию метафизики, в которой все духовное в разной степени «воплощено» в материи97 и в этом письме к Розанову выявил глубокие основы своего «символизма»: «Меня мучила потребность в твердой опоре, в плоти». Этот «символизм» привел ко Христу: «… И плоть я нашел, нахожу во Христе … Со Христом мне хорошо, потому что Он дает мене святую плоть. А больше — мне ничего не нужно»98. А далее, как видно из уже цитированного письма к А. Белому, пришло понимание, что именно такого Христа и знала древняя Церковь99. Флоренскому оставалось только ту же святыню ощутить в современной, «исторической» Церкви, чтобы два «новых сознания» — Флоренского и Мережковского — разошлись радикальным образом.
В последующие годы Флоренский ощущал враждебность со стороны Мережковских в связи с его скрытой (т. е. без обозначения имен) полемикой с ними относительно «жизни» или «мертвенности» «исторической» Церкви100. Сетуя на то, что его сестра Ольга подпала под их влияние, он писал: «Мережковские умеют втираться в доверие и обманывать людей… Зин<аида> Ник<олаевна> же, как ведьма, умеет вкрадываться в сердце… Она (т. е. сестра Флоренского — Ольга Александровна — Н. П .) не видит, не умеет различать в мережковщине ее декоративности, ее безжизненности, ее, наконец, нищенской бедности собственным содержанием, драпирующейся в наворованные отовсюду драгоценные лоскутья»101. Осенью 1913 г. Флоренский в переписке с Розановым еще раз констатировал «духовную смерть» тех, кто почитал умершей «историческую» Церковь: «Бедные Мережковские, — писал он, — мне искренне жаль их… Мне действительно жаль их унижения и их духовной смерти…»102
-
III. П. Флоренский и Н. Бердяев
Несмотря на всю субъективность этого взгляда, Флоренский, как представляется, точно констатировал одно существенное обстоятельство: Мережковские не нашли возможным дать убедительное обоснование своего варианта «нового религиозного сознания» в противовес его аргументации и, вместо религиозно-философской критики, обратились к тактике интриг103. Ничего подобного, даже при самом субъективном подходе, нельзя было сказать относительно Н. А. Бердяева, «новое сознание» которого гораздо более основывалось на определенной философской системе. В отличие от Мережковских, Бердяев дал развернутую критику «Столпа и утверждения Истины» П. Флоренского и сделал это именно с позиции своего принципиального «имманентиз-ма», точно направив главное внимание на тот внутренний стержень, который не позволил Флоренскому стать до конца «новым» (в понимании Бердяева) человеком.
Опыт обнаружения «святого ядра» в Церкви, о котором Флоренский писал А. Белому, или то обретение во Христе «святой плоти» как «точки опоры», которым П. Флоренский делился в переписке с В. Розановым, для Флоренского были прикосновением к данности , трансцендентной по отношению ко всем неустойчивым проявлениям человеческой субъективности. Позиция Бердяева в этом отношении была совершенно иной; настаивая, точно так же, как и Флоренский, на объективном, сверх-психологическом характере религии и религиозного опыта104, он не видел опасности субъективизма в человеческом духовном творчестве, не ограниченном никакими ориентирами, данными «свыше», т. е. «извне» по отношению к человеку. Бердяев видел преимущество свободы своего «нового религиозного сознания» над всеми «боязнями» Фло-ренского105 именно в том, что все «чисто человеческое» в новой религии
Духа побеждается, преображается106 и уже не нуждается в каком-либо «сверхчеловеческом», Божественном контроле.
Для Бердяева церковный догмат — это «компас», т. е. ориентир, по которому совершается дальнейшее движение вперед 107. У Флоренского, — весьма вероятно, независимо от Бердяева и до Бердяева, — возникает образ догмата как «путеводителя»108, по которому также идет движение, но который, очевидно, в своей идее дан для указания и проверки выбранного маршрута109. Человеческое творчество заключается здесь лишь в составлении «путеводителя» по данному Откровению и в расстановке указателей на пути теми, кто уже шел к цели и, может быть, иногда сворачивал на неверную тропинку. Ошибка была обнаружена и предупреждающий указатель был поставлен для тех, кто пойдет вслед за «первопроходцами».
«Боязнь» Флоренского отражена в его образе пути «мистического развития» как подъема в горы по опасным горным тропам и пере-валам110. Проблема, заключается в том, действительно ли эта боязнь исходит из определенного малодушия, религиозного «несовершенноле-тия»111, или же она связана с реальным опытом уже испытанных опасностей, когда предпринятый путь уже обнаружил себя как именно путь в «горы», а не как широкая, «творческая» дорога по равнине112. Возможно, уже какой-либо совершенный проход через «перевал» не позволил П. Флоренскому далее недооценивать всю серьезность ситуации, когда в духовной жизни человек идет «на свой риск и страх»113 и без «точки опоры» уходит «на слишком дальние духовные плавания»114.
Кроме того, и само нахождение «опоры» в трансцендентном также может быть связано с опытом преодоления какого-либо «перевала». Флоренский, как известно, писал в «Воспоминаниях» о пережитом опыте болезненного экзистенциального разрыва и его преодолении через обращение к тому, что можно назвать «наследием предков»115. Только после этого, — на страницах «Столпа и утверждения Истины», — стало возможным описание «риска» в подвиге веры, на который человек идет от пережитой безысходности скепсиса116. Но речь, в данном случае, идет о «риске» веры в то, что уже исповедуется известной традицией, т. е. это — «риск» попытки принять в свой личный опыт то, что уже на протяжении тысячелетий, вероятно, является единообразным опытом многих (а, по убеждению П. Флоренского, — и всего человечества). И далее, от идеи сверх-субъективности «народного опыта»117 можно обосновать наличие трансцендентного, причем само это «теоретическое» обоснование также могло быть сделано по следам определенного личного опыта.
Н. Бердяев, как представляется, достаточно хорошо понимал П. Флоренского и признавал наличие у него действительно глубоких религиозных переживаний. Этим пониманием и признанием как раз и была вызвана вся острота критики, поскольку свой религиозный опыт, присущий, с точки зрения Бердяева, только «новому» человеку, Флоренский не пожелал (по Бердяеву, — устрашился) выразить вне рамок «архаического православия». Очевидно, что потребность Флоренского в трансцендентной «опоре», была интерпретирована Бердяевым уже не как результат опыта, а как упорное, малодушное стремление приспосабливаться к уходящему в прошлое «не зрелому» христианскому сознанию. «Антиномия трансцендентного и имманентного, — писал Бердяев, — снимается в зрелом христианском сознании, преодолевается в Новом Адаме… Трансцендентное есть, но оно дано в имманентном опыте, оно есть лишь трансцендирование»118.
Представляет интерес сам тот факт, что это написано в рамках критики «Столпа и утверждения Истины». Бердяев не мог не заметить, что, по крайней мере, некоторые проявления «оригинальности» и «духовной самостоятельности» (которые, как он подчеркнул, «старая» церковность никогда не примет119) у Флоренского вполне отвечают его (Бердяева) критериям «новизны». Как раз в софиологии «Столпа и утверждения
Истины», по которой П. Флоренский получил именование «модерниста», содержится представление не только о «вечном предсуществовании» человека и всей твари, но и об изначальном обожении, которым вся тварь, в своих идеальных основаниях, обладает в Божественной вечности120. Это означает, что, с точки зрения эмпирии, обожение действительно раскрывается из собственной внутренней мистической глубины человека и Триединый Бог никак не может быть воспринимаем как совершенно «внешний» по отношению к человеку121.
Такой взгляд вполне подходит под принятое Бердяевым соотношение «трансцендентного» и «имманентного» в человеке. Все это Н. А. Бердяев мог бы принять и, следовательно, сам факт его возмущения относится к тому, что именно он увидел стоящим за этой, принципиально близкой ему концепцией П. Флоренского. И представляется, что это — ни что иное, как нежелание Флоренского снять онтологическую «границу» между Богом и человеком.
Можно проследить, как и в софиологии, и в «Богочеловечестве» Владимира Соловьева, Флоренский методично редуцирует соловьевскую «божественность» человека к «обожению», разделяя тем самым тварь и Творца и избегая, таким образом, как он был убежден, характерных для идеи «всеединства» пантеистических соблазнов122. Напротив, отчуждая от себя «всеединство» и софиологию (во всех ее видах), Бердяев остался верным «Богочеловечеству» именно в варианте Соловьева; именно «Богочеловечество» Соловьева было для него одним из проявлений «обновленного» сознания, следствием разрыва с «младенческим», ветхозаветным состоянием христианской религии.
В конечном итоге, П. Флоренский оказался «стилизатором» именно потому, что, при очень близких к Бердяеву (и его «новому религиозному сознанию») интуициях, тем не менее, сохранил в своей концепции догмат о тварности человека. Бердяев не мог признать, что идея твар-ности основана на реальном религиозном опыте и, как представляется, именно на этом основании отказал всей «исторической» Церкви в обладании «опытным богословием». И П. Флоренский, по его мнению, изменяет своему стремлению к такому богословию именно тогда, когда, следуя церковному догмату, разграничивает Творца и тварь123. По всей видимости, это и является самым главным, глубинным разногласием между «новым религиозным сознанием» Флоренского и Бердяева. И проявилось оно, конечно, не в год публикации «Столпа и утверждения Истины».
Нельзя не заметить, как совпадают по времени декларации Бердяева о своем взгляде на «новое религиозное сознание» (1905–1907) и уже отмеченный выше проект П. Флоренского — студента Московской духовной академии, призванный обновить или, точнее, «оживить» церковную догматику (1906)124. По убеждению Флоренского, насыщенная свидетельствами живого религиозного опыта церковная догматика, став «убедительной», не окажется при этом новой 125, но с другой стороны, для этой, оставшейся прежней, исповедуемой Церковью Истины, будет отведено новое место126.
Он выдвигает свои, очень во многом основанные на наследии Владимира Соловьева идеи, явно в противовес тому, что уже начинает обозначаться как бердяевское «новое религиозное сознание». Как характерную его черту Бердяев всегда признавал «возможность развития догматов»127. Проведя принципиальное различие между «мистической» и «исторической» христианской Церковью, он фактически признал все существующие церковные догматы имеющими лишь историческую ценность и предложил ввести новое отношение к понятию «ереси»: «Все люди без исключения, до известной степени, еретики», а «грань, отделяющая ересь от истинной ортодоксии, исторически условна, относительна и никакими человеческими критериями не может быть незыблемо установ-лена»128. По такому пониманию, все прошлые и настоящие «ереси» — это лишь разные направления духовного поиска, неизбежно отклоняющегося от абсолютной религиозной истины, поскольку такая истина еще никому не открылась129.
В наследии Флоренского достаточно четко фиксируется этап, на котором в этих основополагающих для «религиозного сознания» моментах он твердо встает на противоположную Бердяеву точку зрения. Это — середина 1904 г. (точнее, июнь 1904 г.), которой датирован неопубликованный при жизни П. Флоренского диалог «Эмпирея и эмпирия», где, во-первых , утверждается, что абсолютное религиозное мировоззрение не только достижимо, но, по крайней мере, в своих основах, уже имеется и, во-вторых , указывается, что оно не создается человеком и не «удается» ему, а дается , очевидно (хотя, в данном случае, это специально не оговаривается) — «свыше», в результате религиозного откровения130. И далее, как будто «по следам» первой статьи Бердяева о «новом религиозном сознании», Флоренский зачитывает в Московской духовной академии свой «реферат» — вышеуказанный проект 1906 г., в котором представлено вполне определенное решение вопроса о «догматическом развитии»: догматика должна развиваться, но не в сторону поиска новых смыслов и вероучительных истин, а в направлении сближения с точной наукой, которая принимает опыт как фундамент любого точного знания131.
«Водораздел» с направлением мысли Бердяева здесь проходит по очень важной трактовке источника религиозного откровения; по Флоренскому этот источник относительно человека трансцендентен на любом этапе человеческого развития. Более того, эта трансцендентность делает возможной необходимую полноту откровения, которая уже имеет место, но которую человек для себя еще должен открывать и постигать в процессе своего совершенствования.
Формирование такого убеждения, если и не было результатом изначального религиозного опыта П. Флоренского, то, во всяком случае, для него было следствием пережитой внутренней борьбы с идеями о неминуемом господстве над человеком его собственной субъективности и будто бы неизбежного релятивизма по отношению к Истине132. Исходящие от самого человека духовные импульсы, — будь то даже духовное творчество, — не отвергались Флоренским и не ставились «под подозрение» сами по себе133, но самое решительное противление вызывали у него попытки дать человеку «право» на вполне новое, самостоятельное, самопроизвольное духовное творчество, приводящее к формированию по своему собственному вкусу новых духовных реальностей или переделку уже имеющихся духовных реальностей, данных от Бога.
В этом отношении для П. Флоренского не существовало никаких сдерживающих факторов и, с особой чуткостью находя где-либо подобный «имманентизм», он выбраковывал целые сочинения любых авторов, даже самых авторитетных и почитаемых как им самим, так и его близким духовным окружением. Так было в хорошо известном случае с критикой Флоренским А. С. Хомякова (1906)134, вызвавшей вполне предсказуемое негодование М. А. Новоселова и других, «ищущих христианского просвещения»135; менее известен факт обнаружения Флоренским «имманентной заразы» в книге С. Н. Булгакова «Свет Невечерний» (1917), в том месте, где речь шла о «власти и теократии».
«Мне душно в теософии», — писал Флоренский по этому поводу в письме Булгакову (черновик, датируемый 15 августа 1917 г.). «И мне душно в теории суверенитета, лишающего меня прямого взаимодействия с онтологической властью»136. И представляется несомненным, что в данном случае речь идет вовсе не о «теософии» Е. П. Блаватской, а именно о «теософии» Владимира Соловьева, которого Флоренский, как уже отмечалось выше, уличил в «имманентизме» еще в 1905 г. Идея устроения теократии не Богом, а людьми, — писал П. Флоренский В. Ф. Эрну в октябре 1905 г., — «отравила» для него все сочинения В. Соловьева, кроме «Трех разговоров»137.
Все эти свидетельства говорят о твердости и последовательности соответствующих убеждений Флоренского, не позволяющих ему допустить новое человеческое «догматическое творчество» в условиях, когда религиозные догматы уже даны — даны, как он был убежден, самой трансцендентной Истиной. Соответствующей этим убеждениям была и трактовка П. Флоренским «ереси» как субъективной выборки фрагментов, «осколков» Истины вместо собирания всей их полноты138.
Этой теме, собственно, и посвящена в «Столпе и утверждении Истины» целая глава (письмо 5 — «Утешитель»), основные положения которой, как заметил еще в 1984 г. иеромонах (ныне — игумен) Андроник (Трубачев), явно опровергаются из приведенного в этой же главе самим автором материала143. Но, тем не менее, вывод прозвучал: в основе «нового религиозного сознания», — этого, по Флоренскому, сознания людей «лжеименного знания»144, сознания не выше-церков-ного, каким оно себя выдает, а противо-церковного145, — все же «лежит истинная идея»: Св. Духа более ожидают, чем имеют Его «лицом к лицу», более тоскуют об Утешителе, чем Им радуются146. Флоренский спорит с людьми «нового религиозного сознания» по поводу их неумения видеть того, что им дано в «исторической» Церкви и непонимания того, что больше этого «мы сейчас не в состоянии усвоить себе, потому что не чисто еще сердце наше, не чисто сердце твари». Перешагивая через эту реальность, они хотят «как бы насильно стяжать Духа Святого»147 и выносят эти сокровенные чаяния напоказ, не ощущая всей их святыни148.
Но они, согласно Флоренскому, оказываются правыми в самой сути своих ожиданий: «полного сошествия Духа» еще нет149 и «для твари еще не началось восстановление…»150 «Новое религиозное сознание» пытается превзойти «историческую» Церковь, не понимая, что полноценное явление Духа «будет в Ней и через Нее, не иначе…»151. Однако, это — ошибка в направлении и способах «ожидания», а не в самом факте ожидания как таковом.
Эсхатологическая перспектива этого ожидания, задаваемая П. Флоренским и придающая явлению Духа «прерывный», т. е. внезапный, одномоментный характер152, не отменяет процесса, постепенно подготавливающего приход новой эпохи. В истории человечества уже были, согласно Флоренскому, две эпохи, характеризующиеся, соответственно, «односторонним видением» Первой и Второй Ипостасей Св. Троицы. Первая «односторонность» создала религию и жизнь древности с ее «органическим» миросозерцанием, вторая — породила «религию и жизнь нового времени», «закономерное», логическое миросозерцание. Теперь можно видеть, как, в частности, господствующие в науке «связность, непрерывность, постепенность» сменяются новейшими исследованиями и течениями «в области идеи прерывности»; это — знамение приближающегося «Конца», наряду с другими «отклонениями от научности», предрекающими бессмертие и «святую, воскресшую плоть»153. Грядущее «царствие» уже наступает в личном плане, но в плане общественном наступит «тогда только, когда познается… Утешитель, как Ипостась»154.
Здесь, очевидно, присутствуют все основные черты «нового религиозного сознания», за исключением ожидания грядущего обновления вне «исторической» Церкви и без «внешних», трансцендентных по отношению к человеку, воздействий, реализующих это обновление. Чаяние наступления «новой» эпохи, очевидно, непосредственно связывается с традиционным для Церкви ожиданием «воскресения мертвых и жизни будущего века», но центр, вокруг которого свершится будущий духовный переворот в мире, переносится со «Второго Пришествия» Христа на полноценное откровение и познание Третьей Ипостаси. Не разделяя Церковь на «мистическую» и «историческую», вернее, принимая в своей символической концепции Церковь как единую ноуменально-феноменальную (идеально-эмпирическую) реальность, Флоренский признает ее, вместе со всею тварью, еще не достигшей совершенства; она еще восполняется, не только «количественно», за счет входящих в нее новых членов, но также еще и «качественно», восходя к более совершенному познанию Духа и, соответственно, к своему духовному обновлению.
Интересно отметить в этой связи отсутствие у П. Флоренского такого же глубоко отчужденного восприятия Бердяева, какое он испытывал по отношению к Мережковскому. В одном из писем В. Эрну Флоренский даже сообщал о некотором своем «сближении» с Бердяевым, который в конце 1910 г., на Рождество Христово, вместе с женой приезжал в Сергиев Посад155. Можно предположить, что, оставаясь неизменно на своих позициях верности догматике «исторической» Церкви, во всех других отношениях Флоренский видел у себя с Бердяевым гораздо больше общего, чем это может показаться на первый взгляд. Напротив, много лет спустя, вспоминая в последние годы своей жизни о встрече с Флоренским в Москве у С. Н. Булгакова и о своей статье «Стилизованное православие», Бердяев писал: «…У нас было изначальное взаимное отталкивание, слишком разные мы были люди, враждебно разные. Самые темы у нас были разные»156. Представляется, что с этим последним утверждением Бердяева, — о различии тем, — вряд ли можно согласиться, но многие вопросы сходства и различия основных интуиций Бердяева и Флоренского во всей своей полноте еще ждут своего исследования.
Что же касается данной темы, то, в качестве итога, необходимо заметить следующее. Флоренскому была важна реальность, которая обладает постоянством, лишена человеческой субъективности и «психологизмов». Грядущее обновление для него — это прямое движение к «абсолютному», «целостному» миросозерцанию, в котором религиозные истины (догматы) имеют такое же значение точного, объективного знания, как данные науки и факты достижений человеческого разума в философии. Именно в этом направлении он планировал развернуть социальную активность «братства», создаваемого совместно с В. Эрном и В. Свенцицким. В понимании Флоренского такая деятельность менее всего означала содействие какому-либо внешнему переустройству в жизни общества, революционным переменам во власти или в отношениях между Церковью и государством. Это был замысел реализации идей Владимира Соловьева, прежде всего, на уровне человеческого сознания, когда было бы окончательно упразднено миросозерцание «плоскостное», лишенное «глубины» восприятия мировой реальности и потому замкнутого только на видимый, эмпирический мир.
За таким обновлением сознания должна следовать теургия, — тоже по Соловьеву, но с одной очень важной корректировкой, потребность в которой была осознана Флоренским, по крайней мере, к 1904–1905 гг. Именно к этому периоду относятся прямые свидетельства наличия у него убеждения в зависимости качества грядущего «богоделания» от участия деятелей в совместной молитве, церковном богослужении и св. Причастии. Образ «святого ядра», открытого в это время Флоренским в «исторической» Церкви, очевидно, отражает пережитый им опыт церковных таинств и раскрывает основную причину его расхождений как с деятелями «Христианского братства борьбы», так и с представителями «нового религиозного сознания». Вопрос о христианской «правде земли», поставленный Соловьевым и по-своему воспринятый «Братством» и Мережковскими, для Флоренского означал раскрытие через человека в эмпирическом мире иных, высших уровней Бытия вплоть до мира Божественного. И, вопреки Мережковскому, высшую реализацию «правды земли», «святой плоти», он увидел в аскетической практике «исторического» христианства.
Флоренский сделал очень много для того, чтобы показать наличие «опытного богословия» в «исторической» Церкви и, в отличие от Бердяева, он не нашел неразрешимого противоречия в том, что церковные догматы, будучи данными в Божественном Откровении, вместе с тем, являются результатом живого религиозного опыта. Догмат, по мысли Флоренского, подтверждается опытом и тем самым становится критерием его подлинности, как указатель правильного пути, поставленный теми, кто это путь уже прошел. С этой точки зрения, никакой новый опыт не может быть причиной изменения наличных догматов или появления новых; соответственно, все новое , не подтверждающее данную Церкви Истину, является субъективным человеческим творчеством. Человеческому творчеству Флоренский хотел дать свободу в Истине, а не право следовать произволу личных человеческих вкусов и желаний.
Можно сказать, что П. Флоренский действительно «боялся» теории нового «антропологического откровения» Н. Бердяева, но эта «боязнь» была связана с его острой потребностью в «точке опоры», которую эта теория не давала, т. к. была лишена необходимых для Флоренского объективно данных ориентиров. Это — церковная догматика, за пределы которой сам Флоренский не вышел даже в своих наиболее дискуссионных концепциях, будь то софиология или поздний символизм, жестко связывающий реальности духа и материи и вводящий в эту связь нетвар-ный Божественный мир. Флоренский, в конце концов, пришел к той же антиномии трансцендентного и имманентного, которая присутствовала уже в «Столпе и утверждении Истины» и которую, как представляется, не мог не заметить там Н. Бердяев как сродное себе и всему «новому религиозному сознанию» убеждение.
Подлинный «водораздел» мысли Бердяева и Флоренского прошел не по отдельным нюансам общего для них ожидания наступления «новой» эпохи, нового «откровения Духа», не по «младенческому» состоянию религиозности, будто бы характерному для Флоренского и для всего «исторического» православия, а по онтологической границе между Творцом и тварью, которую преодолевает «новое» сознание Бердяева и которую не смог преодолеть в своих трудах Флоренский. Эта верность П. Флоренского главным, основополагающим церковным догматам и разделила в конечном счете его направление с движением «нового религиозного сознания».
За рамками данного рассмотрения осталась важная, но вполне самостоятельная тема отношений П. Флоренского с В. В. Розановым — также, в определенном смысле, человеком «нового» сознания. Но представляется, что ее разработка только подтвердит общий вывод, следующий из всего вышесказанного: в конечном итоге, не «новое религиозное сознание» определило характер религиозно-философских и богословских трудов о. Павла Флоренского, и не «модернизм» вносился им в Церковь, а, напротив, его церковность сдерживала его «модернизм» и именно опыт церковности не позволил ему во всей полноте стать человеком «нового религиозного сознания». Фиксацией этого опыта церковности впоследствии стали лекции о. Павла Флоренского по «Философии культа», которые по своей значимости в его наследии могут сравниться только со «Столпом и утверждением Истины» и представляют собой главный итог его жизни и деятельности.
Список литературы "Старое" и "новое" религиозное сознание в трудах священника Павла Флоренского
- Андроник (Трубачев), игум. Теодицея и антроподицея в творчестве священ-ника Павла Флоренского. Томск, 1998.
- Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность. СПб.: Издание М. В. Пирожкова, 1907.
- Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991.
- Бердяев Н. А. Стилизованное православие//П. А. Флоренский: Pro et contra. Антология. Изд. 2-е. СПб., 2001
- Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого//Он же. О назначении человека. М., 1993.
- Библиографический справочник. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского/сост. игумен Андроник (Трубачев). С. Посад, 2015.
- Гиппиус З. Н. Дневники. Т. 1. М., 1999.
- Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951.
- Мережковский Д. С. Не мир, но меч. М.: АСТ, 2000.
- Мережковский Д. Тихий омут. М., 1908.
- Флоренский П., свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М., 1992.
- Флоренский П., свящ. Около Хомякова//Он же. Сочинения: В 4 т. М., 1996.Т. 2.
- Флоренский П., свящ. Символика видений//Он же. Сочинения в 4-х т. М.:Мысль, 1999. Т. 3 (1).
- Павел Флоренский и символисты. Опыты литературные. Статьи, Переписка. М., 2004.
- Павлюченков Н. Н. Переписка П. А. Флоренского и В. Ф. Эрна//Русское богословие: Исследования и материалы. 2015. М.: Издательство ПСТГУ, 2015.
- Переписка В. В. Розанова и П. А. Флоренского//Розанов В. В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники. М.-СПб., 2010. Книга вторая.
- Переписка П. А. Флоренского и В. Ф. Эрна/публикация, коммент. Н. Н. Павлюченкова//Русское богословие: исследования и материалы. М., 2014.
- Переписка свящ. П. А. Флоренского со свящ. С. Н. Булгаковым. Томск, 2001.
- Свенцицкий В. П. Собрание сочинений. М., 2010. Т. 2.
- Серафим (Соболев), архиеп. Новое учение о Софии Премудрости Божией.София, 1935.
- Трубецкой Е. Н. Свет Фаворский и преображение ума//П. А. Флоренский:Pro et contra. Антология. Изд. 2-е. СПб., 2001.
- Флоренский П. Вопль крови. Из гомилетического наследия священника Павла Флоренского//Ныне и присно. 2006. № 3-4. С. 171-174.
- Флоренский П., свящ. Вопросы религиозного самопознания//Он же. Сочинения: в 4 т. М., 1994. Т. 1.
- Флоренский П., свящ. Сочинения. Столп и утверждение Истины. М., 1990.Т. 1 (ч. 1-2).
- Флоренский П., свящ. Понятие Церкви в Священном Писании//Он же. Сочинения: в 4 т. М., 1994. Т. 1.
- Флоренский П., свящ. Спиритизм как антихристианство//Он же. Сочинения: в 4 т. М., 1994. Т. 1.
- Флоренский П., свящ. Сочинение Оригена «Пερί άρχών» как опыт метафизики//Он же. Из истории античной философии. М.: Гуманитарий, 2007.
- Флоренский П., свящ. Эмпирея и эмпирия//Он же. Сочинения: в 4 т. М.,1994. Т. 1
- Флоренский П. В. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы:в 2 т. М., 2010. Т. 1.
- Флоренский П. В. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы:в 2 т. М., 2015. Т. 2.
- Фудель С. И. Об о. Павле Флоренском//П. А. Флоренский: Pro et contra. Антология. Изд. 2-е. СПб., 2001