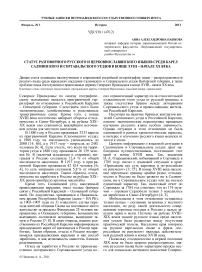Статус разговорного русского и церковнославянского языков среди карел Салминского и Сортавальского уездов в конце XVIII - начале XX века
Автор: Пашкова Анна Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.
Бесплатный доступ
Этническое самосознание, приладожские карелы, северное приладожье, языковой вопрос, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/14749835
IDR: 14749835
Текст статьи Статус разговорного русского и церковнославянского языков среди карел Салминского и Сортавальского уездов в конце XVIII - начале XX века
Северное Приладожье по своему географическому положению являлось приграничной территорией по отношению к Российской Карелии – Олонецкой губернии. Следствием этого были экономические, хозяйственные и родственные трансграничные связи. Кроме того, с конца XVIII века постепенно набирает обороты отходничество в Санкт-Петербург, а на рубеже XIX– ХX веков оно становится важнейшим источником дохода для местного населения.
В 1880 году в России проживали 3233 карела из приграничной Карелии (Салминского уезда), в 1900 году их численность уменьшилась до 2000 [14; 86], а к 1917 году – возросла до 2481 человека [6; 4]. Если учесть, что всего на территории уезда в 1880 году проживали 26 139 человек [6; 4] (включая младенцев и стариков), миграция в Россию составила 12,4 % от общей численности населения. В 1917 году в приграничной Карелии проживали 42 814 человек [6; 4], то есть миграция составила 5,8 % от общей численности населения. Таким образом, отходничество на заработки в Россию на рубеже XIX– XX веков приобрело крупные масштабы.
Кроме того, Салминский уезд, населенный православными карелами, имел тесные брачные связи с Российской Карелией – Олонецкой губернией. По документам, хранящимся в Национальном архиве Республики Карелия (далее – НА РК), за 1903–1907 годы из 31 известного случая перехода жителей общины Салми на постоянное место жительство за пределы Финляндии 25 человек направлялись в Олонецкую губернию. Большинство выехавших составляли женщины, вышедшие замуж в Россию [7; 8]. В свою очередь, именно родственники из Российской Карелии информировали приладожских карел об имеющихся в России заработках. Таким образом, отъезд в Россию воспринимался приладожскими карелами и как способ заработать, и как возможность навестить близких родственников.
Отход на заработки в Россию из преимущественно лютеранского Сортавальского уезда но- сил ограниченный характер из-за относительной отдаленности этого уезда от русской границы, а также отсутствия браков между лютеранами Сортавальского уезда и православными жителями Российской Карелии.
Несмотря на наличие брачных контактов жителей Салминского уезда и Российской Карелии, именно экономические перспективы придавали изучению русского языка особую значимость. Однако ситуация в этом отношении не была одинаковой в разные хронологические периоды, и интерес к изучению русского языка менялся от эпохи к эпохе.
Ценную информацию о языковой ситуации в Салминском и Сортавальском уездах дают наблюдения путешественников, посетивших этот край в конце XVIII века. Так, академик Н. А. Озерецковский, побывавший в Сортавале в 1785 году, писал о языковой ситуации в крае: «Прихожане все суть кареляки и по-российски не разумеют» [3; 75]. В конце XVIII века население пересекало границу крайне редко, отходничество в Россию не было развито ни в Салмин-ском, ни в Сортавальском уездах или же носило единичный характер. Так, налоговый отчет по Сортавале за 1784 год отмечает, что из 174 мужчин – горожан Сердоболя только 3 находилось на заработках в Санкт-Петербурге [4; 2].
Мобильными в этом отношении оставались только купцы – скупщики пушнины у местного населения, по роду своей деятельности совершавшие торговые поездки в Россию с целью закупки зерна и муки. Поэтому на рубеже XVIII– XIX веков знание русского языка среди населения уездов было редкостью ввиду отсутствия практической пользы. Население края говорило на родном карельском языке и фраза «по-российски не разумеют» являлась действительной реалией жизни в конце XVIII века.
Поскольку отходничество в первой половине XIX века не было широко распространено, знание русского языка было характерно прежде всего для социально активного населения Северно- го Приладожья, в первую очередь купцов, которые вели торговлю с Россией. Торговля русским зерном в Северном Приладожье была наиболее прибыльным видом коммерции в XVIII – начале XX века и привела к возникновению в Сортавале знаменитых купеческих династий – Боэм, Молдаковы, Ситойн, Саукко, Берг и др. [17; 153], [20; 49]. Знание русского языка было важным фактором для заключения с русскими купцами договоров и осуществления сделок. Так, документы середины XIX века сообщают, что из 18 наиболее известных сортавальских купцов 10 могли свободно говорить по-русски и по-фински, 5 – по-русски, по-фински и по-шведски, 2 говорили на русском, финском, шведском и немецком языках, и только один купец (Габриэль Ригойн) знал лишь финский язык [9; 123].
Я. К. Грот, посетивший Приладожье в конце 1840-х годов, отметил широкое распространение русского языка в Сортавале – городе, где про-финские настроения были традиционно сильны: «Русский язык здесь более известен, чем в Кекс-гольме… Прихожане и их дети говорят по-русски и детей учат грамоте на русском языке… Прислуга здесь говорит исключительно по-карельски». Далее автор поясняет, что представляет для него карельский язык: «…это какая-то смесь русских слов с финскими» [1; 15]. О Сал-минском уезде Я. К. Грот пишет: «При этом чем восточнее местность, тем более сказывалось обрусение сельского населения, так что в Салмин-ском приходе карелы говорили почти русским языком и называли себя русскими» [1; 7]. Таким образом, приладожские карелы говорили на карельском языке, но из-за развития контактов между Приладожской Карелией и Россией (отходничество, сезонные и постоянные работы и др.) знание русского языка приобретало все большую значимость, что и обуславливало как изучение самого русского языка, так и наличие заимствований некоторых слов, связанных с хозяйственной деятельностью.
О популярности русского языка свидетельствует и финский историк А. А. Брандерс, посетивший приход Суоярви в 1892 году: «Литературного финского языка здесь не понимают… русский язык считают выше своего, лишь в последнее время чиновники и школы очищают язык» [8; 21]. В его работе мы находим и более яркие описания, свидетельствующие о популярности русского языка, и напротив, отсутствии всякого интереса не только к финскому, но и к родному карельскому языку: «Язык родных общин (карельский) народ называет “lehmankieli”, т. е. язык коров, мычание, к финскому литературному языку относятся не лучше, называя его “ruotsinkieli”, т. е. шведский язык, русский же язык в большом почете, он необходим для всех тех, кто ездит в Санкт-Петербург» [8; 21].
Вторая половина XIX века стала временем форсированного развития промышленности и торговли на территории Северного Приладожья.
Все более возрастающие темпы жизни не могли не сказаться на языковой сфере изучаемого региона. Торговые связи приладожских купцов и отходничество, которое с середины XIX века приобрело массовый характер, диктовали необходимость изучения русского языка, ведь именно Санкт-Петербург и Российская Карелия становятся центрами сосредоточения экономических интересов для населения Северного При-ладожья.
По мнению официальных русских властей, в начале XX века в Карелии, за исключением приходов Тайпала и Йоэнсуу, все карелы, включая приладожских, говорили на карельско-русском наречии, которое было близко к русскому языку, «так что большинство карел, не изучившее финского языка, не понимает финской литературной речи» [16; 20].
Имелся фактический повод утверждать о существовании карельско-русского наречия в При-ладожской Карелии, некоей смеси языков, своего рода суржика, возникшего благодаря многочисленным заимствованиям из русского языка [21; 88], [14; 164], [23; 7–21].
На рубеже XVIII–XIX веков молитвы в лютеранских церквах произносились на финском языке, а в православных – на церковнославянском. В начале XIX века состоялась масштабная попытка перевода богослужебной литературы на карельский язык. Синод распорядился перевести катехизис и Символ веры на «олонецкий и карельский языки». Дальнейшие переводы богослужебных книг активизировались в 1850–60-е годы [15; 21]. В первой половине XIX века духовные власти поддерживали тех священников, которые владели карельским языком и использовали его при богослужении и совершении церковных треб [12; 32].
Внимание властей к изучению местных языков проявлялось в том, что уже с 1826 года финский язык стал входить в программу обучения учащихся Санкт-Петербургской духовной академии – выходцев из Финляндии. Позднее карельский язык преподавался в Архангельской и Олонецкой духовных семинариях [11; 130–136], [13; 289]. В 1869 году Святейший синод издал постановление, носящее рекомендательный характер, в котором подчеркивалась особенная важность свободного владения финским языком для священников православных приходов Финляндии [15; 21].
С другой стороны, хотя финский язык законодательно был разрешен для использования в богослужении уже в начале XIX века, на практике это почти нигде не выполнялось вплоть до рубежа XIX–XX веков. Так, в одном из церковных документов 1869 года говорится, что «прихожане местных церквей вообще усердны к исполнению внешних обрядов Богопочтения, можно надеяться, что ревность их усилится, когда везде будет проводиться служба Божия на финском языке, как оная отправляется в сердо-больской церкви» [5; 18].
Таким образом, несмотря на существующие постановления, православные богослужения на протяжении XIX века по-прежнему проводились на церковнославянском языке, использование родного для населения языка являлось редкостью и проводилось только в сортавальской православной церкви.
Лишь в начале XX века церковнославянский язык теряет свои позиции в сфере православного богослужения и службы начинают проводиться на финском языке во всех общинах, кроме Сал-ми и Суоярви. Подтверждение сложившейся ситуации находим в «Исторической записке о положении православия в финляндской Карелии»: «Существованием карельско-русского наречия объясняется отчасти то обстоятельство, что чисто карельское население предпочитает русские школы финским и совершение богослужения на славянском или же карельском языке. Таким отношением к богослужению особенно отличается большинство населения самого многолюдного Салминского прихода. В остальных же приходах, кроме Шуезерского, успел уже привиться финский богослужебный язык» [2; 21].
Преданность жителей Суоярви и Салми церковнославянскому языку легко объяснима с точки зрения экономических интересов местного населения. В Суоярви на протяжении XIX века действовал знаменитый Анненский завод, на котором работали русские мастеровые. Местные жители Суоярви, постоянно общаясь с русскими, считали Россию наиболее перспективным соседом: из России привозили хлеб, там можно было найти заработки, оттуда в Суоярви приезжали рабочие – носители русского языка и культуры, с которыми местное население вступало в постоянные контакты – как экономические, так и брачные. Помимо этого, православное богослужение на церковнославянском языке было традиционным на протяжении многих столетий, и у местного населения не было повода менять традицию. В общинах Салми и Суоярви церковные службы проводились на церковнославянском языке на рубеже XIX–XX веков. Причина популярности церковнославянского языка заключалась в пограничном положении Салминской общины. Находясь на границе с Российской Карелией, община Салми состояла в постоянных экономических контактах с Россией, вследствие этого знание русского языка в большей мере, чем в других общинах, воспринималось жителями как необходимый фактор благополучного финансового благосостояния. Без знания русского языка долгосрочные поездки в Россию с целью заработка становились невозможными. Богослужение на церковнославянском языке воспринималось как принадлежность к русской культуре и тому языку, который давал заработки.
Благожелательное отношение русских властей к финскому языку в первой половине XIX века имело прежде всего политическую подоплеку. Русское правительство предпринимало то- гда меры по укреплению финского языка главным образом для того, чтобы ослабить возможное влияние Швеции и зарождавшегося скандинавизма. Поддерживая финский язык, власть одновременно ослабляла позиции шведского языка и, соответственно, влияние шведской культуры на население Финляндии.
Во второй половине XIX века позиции в языковом вопросе существенно меняются. Врагом царского правительства был уже не скандинавизм, а финский национализм, проводником которого стал финский язык. Поэтому царские власти начинают поддерживать карельский язык.
Финский историк Э. Куйо утверждает, что российские чиновники с конца XIX века планомерно проводили линию на укрепление позиций карельского и русского языков в противовес финскому. Карельский язык, согласно этой линии, должен был быть допущен в сферу богослужения прежде всего для того, чтобы приладожские карелы не отвернулись от православия из-за проведения службы в православных церквах на непонятном для них церковнославянском языке [16; 38].
Среди приладожского православного духовенства и чиновничества на рубеже 1850–70-х годов появляется стремление переводить часть богослужебной литературы с церковнославянского на карельский язык. В отличие от финских националистов, стремившихся проводить политику финнизации по отношению к православному населению, православные священники переводили литературу на карельский с целью усиления позиций православия в крае. По их мнению, для поддержания авторитета православия необходимо проводить хотя бы отдельные службы на понятном для населения родном языке. В Салминском и Сортавальском уездах частично службы на карельском проводили священник Суйстамо и Иломанси Василий Дьяконов, священник Суйстамо Иоанн Зотиков, в Сортавале переводом богослужебной литературы занимался в 1854–1874 годах чиновник Федор Львов, а в Ките карельский язык в обучение детей внедрял Алексей Шепелевский. Переводом православной богослужебной литературы занимались также известный финляндский протоиерей Михаил Казанский и священник Суйстамской церкви Иоанн Альбинский. Учителя Сортавальской семинарии Сергей Окулов и Сергей Солнцев также увлекались переводами религиозной литературы на карельский язык [18; 79].
В то же время, несмотря на имеющиеся переводы, использование местного языка в службах при православных храмах затруднялось по причине незнания многими священниками финского и карельского языков. Так, только 25 из 40 православных священников, служивших в Сал-минском уезде в 1848–1900 годах, владели финским языком и, следовательно, могли свободно общаться с паствой [15; 21].
Интересно отметить, что и само отношение части православной паствы к введению церков- ных служб на финском языке было негативным. Так, когда в 1905 году после появления закона о свободе совести и свободы печати под влиянием учителей финских национальных школ службы в Салми стали проводиться на финском языке, паства выступила против нововведения [18; 84]. Изначально собрание было организовано преподавателем русского языка Сердобольской учительской семинарии Сергеем Окуловым. По плану Окулова, службы на финском языке должны были проводиться только каждую вторую субботу после службы на церковнославянском языке. Тем не менее община отвергла это нововведение [10; 160].
В целом приладожские карелы были полностью индифферентны по отношению к финскому национальному самосознанию. В Сортавальском уезде, всех общинах Салминского уезда, кроме общин Салми и Суоярви, православные выступали за богослужения на финском языке только по практическим соображениям, поскольку службы на финском были им понятны. В подтверждение этого можно привести слова Т. Хямюнена: «Финская Карелия была территорией, населенной православными, и национальные (т. е. профинские) чувства ее жителей были крайне слабыми. Ни основанная в 1880 году сортавальская учительская семинария, ни газета “Laakokka” и организованная под ее руководством просветительская работа, ни “Земледельческое общество Восточной Карелии” не смогли привести к усилению национальных чувств» [15; 39].
Таким образом, русский язык пользовался большой популярностью у населения Северного Приладожья со второй половины XIX века, что достигло своего апогея к началу XX века. Поездки в Олонецкую Карелию и Петербург были затруднительны без знания элементарных хозяйственных и бытовых русских терминов, что обусловливало как интерес к изучению самого русского языка, так и заимствование слов и выражений хозяйственного характера. В свою очередь, принадлежность жителей Салминского уезда к православию стало причиной появления в карельском языке приграничных карел терминов, связанных с церковной обрядностью. Церковнославянский язык воспринимался как часть русской культуры и той страны, куда население уходило на заработки. Традиционализм приграничных карел, слабо развитое национальное самосознание и особенно стремление приобщить детей к русской культуре и языку посредством церковнославянского языка были главными аргументами жителей Салминского уезда, что наиболее отчетливо проявилось у жителей Салми и Суоярви.
Работа подготовлена при поддержке гранта РГНФ по проекту № 10-01-00631а/F «Народ, разделенный границей. Карелы в истории России и Финляндии в 1809–2009 гг.: эволюция идентичностей, религии и языка» совместного конкурса РГНФ – Академии Финляндии 2010 г.
Список литературы Статус разговорного русского и церковнославянского языков среди карел Салминского и Сортавальского уездов в конце XVIII - начале XX века
- Пулькин М. В. Карельский язык в Олонецкой духовной семинарии//Православие в Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 130-136.
- Пулькин М. В. Русификация в Карелии -цели, методы, итоги (XIX -начало XX в.)//«Свое» и «чужое» в культуре народов Европейского севера. Петрозаводск, 2003. С. 31-33.
- Санакина Т. В. Из истории подготовки священнослужителей для Кемского и Онежского уездов Архангельской губернии в XIX веке//Православие в Карелии. Петрозаводск, 2008. С. 282-290.
- Hamynen T. Liikkeella leivan tahden. Helsinki, 1993.
- Hamynen T. Suomalaistajat, venalaistajat ja rajakarjalaiset. Joensuu, 1995.
- Kuujo E. Jo Karjalan kunnailla lehtipuu Moskovan rauhasta luovutettujen alueiden varhaisempia vaiheita. Lappeenranta, 1994.
- Kuujo E., Tiainen J., Karttunen E. Sortavalan kaupungien historia. Jyvaskyla, 1970.
- Laatokan Karjalan nousen vuosikymmenet. Pieksamaki, 1956.
- Lampen E. Pika-kuvia Raja-Karjalasta. Helsinki, 1890.
- Paajula P. Sortavalan Berg-suku. Helsinki, 1947.
- Paaskoski J. Suomen lahjoitus maat (1710-1826). Helsinki, 1997.