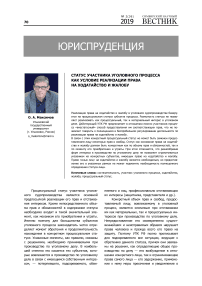Статус участника уголовного процесса как условие реализации права на ходатайство и жалобу
Автор: Максимов Олег Александрович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 2 (36), 2019 года.
Бесплатный доступ
Реализация права на ходатайство и жалобу в уголовном судопроизводстве базируется на процессуальном статусе субъекта процесса. Размытость статуса не позволяет реализовать как процессуальный, так и материальный интерес в уголовном деле. Действующий УПК РФ предполагает в отношении многих участников процесса «внестатусный» способ предоставления им соответствующих прав, что не позволяет говорить о полноценном и беспробельном регулировании деятельности по реализации права на ходатайство и жалобу. В связи с этим конкретный процессуальный статус не может быть заменен предоставлением лицу некоторых прав и свобод. Статус как основание права на ходатайство и жалобу должен быть конкретным как по объему прав и обязанностей, так и по моменту его приобретения и утраты. При этом отмечается, что разнообразие форм интереса в производстве по уголовному делу не позволяет ограничиваться указанием на конкретных субъектов, имеющих право на ходатайство и жалобу. Право «иных лиц» на ходатайство и жалобу является необходимым, но предоставление его в указанных рамках не может подменять необходимость полноценного определения статуса лица.
Состязательность, участник уголовного процесса, ходатайство, жалоба, процессуальный статус
Короткий адрес: https://sciup.org/14116308
IDR: 14116308
Текст научной статьи Статус участника уголовного процесса как условие реализации права на ходатайство и жалобу
Процессуальный статус участника уголовного судопроизводства является основной предпосылкой реализации его прав и отстаивания интересов. Кроме непосредственного объема прав и обязанностей в содержание статуса необходимо входит и такой значительный элемент, как механизм его приобретения и утраты. Именно поэтому для большинства субъектов уголовного процесса законодатель четко определяет момент обретения и продолжительность нахождения в конкретном процессуальном статусе. Указанные моменты, как правило, связаны с решениями, необходимо принимаемыми при производстве по уголовному делу. В наибольшей степени это касается тех субъектов, которые вовлекаются в производство по уголовному делу в связи с имеющимся собственным интересом, — потерпевшего, подозреваемого, обви- няемого и лиц, профессионально отстаивающих их интересы (защитника, представителя и др.).
Конкретный объем прав и свобод, предоставляемый лицу, вовлекаемому в уголовный процесс, является ключевым при отстаивании им как материальных, так и процессуальных интересов при производстве по уголовному делу. Непредоставление его своевременно существеннейшим и неисправимым образом нарушает права человека и прежде всего его право на защиту. Поэтому УПК РФ полно прописывает для подозреваемого все ситуации, ведущие к обретению данного статуса, причем они завязаны на решения, как определяющие общее производство по делу — его возбуждение в отношении конкретного лица, так и ограничивающие права самого лица — его задержание, применение к нему меры пресечения и уведомление о подозрении. Идеальная картина состязательного уголовного судопроизводства не предполагает иных случаев начала уголовного преследования конкретного лица и, соответственно, гарантирует ему возможность своевременно защищаться от этого. Однако практика вносит свои коррективы, и процессуальные органы, достаточно часто заинтересованные в возможности беспрепятственно, в розыскном режиме осуществлять свою деятельность, находят лазейки в требовании закона своевременно обеспечить состязательность при расследовании преступлений. Наиболее часто встречается возбуждение уголовного дела «по факту» совершения преступления, несмотря на очевидность лица, в отношении которого ведется производство. Сами такие попытки говорят о важности своевременного обретения конкретного процессуального статуса как гарантии обладания необходимыми инструментами защиты прав и свобод.
Очевидны и попытки процессуальных органов затягивать с привлечением лица в качестве обвиняемого. Этот акт, по сути являющийся правозащитным, так как обозначает объем претензий к лицу, от которых ему предстоит защищаться, стараются вынести как можно позднее. Тем самым органы предварительного расследования затрудняют для вовлекаемого лица возможность сформировать свою защиту, собрать необходимые доказательства и др. и создают себе наиболее комфортные условия работы — без состязания, без учета интересов второй стороны.
Еще одной значительной проблемой, причем в большей степени законодателя, чем практики, является использование в УПК РФ одинаковых понятий для разноплановых явлений. Яркий пример этого — использование слова «адвокат». В одном из значений он упоминается как представитель юридического сообщества, имеющий указанный профессиональный статус и выступающий в качестве соответствующего субъекта в процессе — «защитника» или «представителя». В другом выступает как самостоятельный одноименный субъект уголовного процесса. Эта путаница приводит к подмене понятий «защитник» и «адвокат» и смешению их процессуальных статусов.
Функция защитника состоит в оказании юридической помощи и защите прав и интересов только подозреваемых и обвиняемых. Фактическое положение свидетеля не предполагает в отношении него уголовного преследования, и правом на защиту он не обладает. Он может являться на допрос с адвокатом, который оказы- вает ему юридическую помощь, присутствует при допросе и пользуется некоторыми правами, имеющимися у защитника. Других способов оказания адвокатом помощи свидетелю нет.
Таким образом, «защитник» и «адвокат» — различные субъекты уголовно-процессуальной деятельности с несовпадающим статусом. При этом УПК РФ не содержит правил отвода «адвоката» вообще, а в отношении «защитника» эти правила позволяют одному и тому же лицу представлять интересы свидетеля и защищать подозреваемого или обвиняемого, если их интересы не противоречат (а как они могут противоречить, если свидетель — «иной» субъект уголовного процесса, изначально ни в чем не заинтересованный?). В иных, кроме допроса и производства обыска, если тот проводится у свидетеля, следственных действиях адвокат участвовать не может. Расширительное толкование полномочий «адвоката» и его смешение с «защитником» влечет различные существенные нарушения. Так, участие «адвоката» при осмотре может привести к тому, что информация, имеющая значение для дела, может стать доступна ненадлежащим субъектам.
Полнота и конкретность процессуального статуса, в том числе его своевременность, точность определения его получения и прекращения, неоднократно являлись объектом внимания законодателя. Так, например, изменения, касающиеся установления момента обретения статуса потерпевшего, определенные Федеральным законом № 432-ФЗ от 28.12.2013, затрагивающие совершенствование прав потерпевших в уголовном процессе, говорят о значимости этого момента для защиты прав лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. Момент вступления в дело защитника, определенный частью 3 статьи 49 УПК РФ, последовательно дополнялся новыми основаниями в 2007 и 2013 годах. Причем все это происходило на фоне действия постановления Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 года № 11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова», которое определило, что статус лица, вовлеченного в уголовное судопроизводство в качестве конкретного субъекта, менее важен в сравнении с более высоким (конституционным) уровнем статуса лица, преследуемого в рамках уголовного судопроизводства. «Конституционное право на помощь адвоката (защитника) не может быть ограничено федеральным законом» [8].
Указанный подход законодателя подчеркивает, что «внестатусное» обладание уголовнопроцессуальными правами не может в полной мере защитить вовлекаемое в процесс лицо. «Внестатусность означает выход за пределы статуса, определяемого обычно в соответствии с функциями участника уголовного процесса» [3, c. 207].
При достаточном внимании к отдельным субъектам процесса действующая редакция УПК РФ не в полной мере определяет процессуальный статус всех лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. Это, в свою очередь, не позволяет лицам, не обладающим конкретным уголовно-процессуальным статусом, реализовывать свои права в полном объеме, лишает их возможности полноценно и активно отстаивать свои интересы в состязательном судопроизводстве [5]. В частности, такой подход позволяет рассматривать их ходатайства и жалобы как непроцессуальные обращения, игнорируя уголовно-процессуальный механизм защиты прав и свобод [4, с. 136; 6, с. 29].
Статья 123 УПК РФ среди лиц, обладающих правами на подачу жалобы, упоминает участников уголовного процесса, а также иных лиц, чьи интересы затрагиваются процессуальными действиями и решениями по уголовному делу.
Участниками уголовного судопроизводства выступают все лица, принимающие участие в уголовном процессе (пункт 58 статьи 5 УПК РФ). Таким образом, в объем этого понятия входят и должностные, и физические, и юридические лица, участвующие в уголовно-процессуальных правоотношениях. В то же время раздел 2 УПК РФ определяет совершенно конкретный состав участников уголовного судопроизводства. При внимательном рассмотрении оказывается, что указанный круг не является исчерпывающим — за его пределами, к примеру, находится «следователь-криминалист» (пункт 41.1 статьи 5 УПК РФ). Статьи 56, 189 УПК РФ предусматривают наличие в уголовном процессе «адвоката», однако его права и обязанности определены бланкетным способом, что не позволяет полноценно определить рамки его участия. Упоминающийся в разделах 5 и 7 УПК РФ «заявитель» обладает определенным правовым статусом, однако точно его место в системе субъектов уголовного процесса не определено. Неясно, могут ли претендовать на какие-либо права и исполнять какие-либо обязанности лица, присутствующие в месте производства обыска (статья 182 УПК РФ).
Статья 119 УПК РФ среди лиц, обладающих правом на заявление процессуальных хода- тайств, перечисляет ряд участников уголовного процесса, включенных в раздел 2 УПК РФ. Также право на подачу ходатайства предоставлено свидетелю (статья 56 УПК РФ). Кроме того, данное право принадлежит «представителю администрации организации и иному лицу, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства».
«Представитель администрации организации» упоминается также в части 6 статьи 177 УПК РФ в связи с производством осмотра помещения организации, части 15 статьи 182 в связи с производством обыска в помещении организации. Части 2 и 4 статьи 188 УПК РФ упоминают «представителя администрации по месту работы (или учебы)» в связи с передачей через него повестки. Части 1 и 3 статьи 445 УПК РФ упоминают администрацию медицинской организации в связи с ее правом на заявление ходатайства, связанного с исполнением принудительной меры медицинского характера, однако предмет и процедура подачи такого ходатайства никак не соотносятся с правом на «правообеспечительное» ходатайство, установленное статьей 119 УПК РФ. Таким образом, даже рассматривая одного упомянутого в законе субъекта права на ходатайство, сложно понять, кого имеет в виду законодатель и, соответственно, кто может на эти права претендовать. Подмена и смешение различных понятий в рамках УПК РФ позволяет говорить об отсутствии системы в подходе к определению процессуального статуса лиц и невозможности четкого определения средств и методов их уголовно-процессуальной деятельности.
Упоминание в законе «иных лиц, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства», как субъектов права на ходатайство и жалобу, позволяет говорить о появлении при расследовании уголовного дела участников, обретающих «не характерные для него элементы статуса другого участника процесса» [2, c. 26]. Все это расширяет границы обжалования, что, несомненно, способствует достижению назначения уголовного судопроизводства и соотносится с ранее упомянутой позицией Конституционного Суда РФ, ставящей «фактический» статус лица выше статуса «процессуального». Тем самым «законодатель... гарантирует наличие условий, обеспечивающих права и законные интересы участников уголовного процесса» [1, c. 193]. С другой стороны, такая формулировка, отдавая на откуп лицу, разрешающему обращение, полномочия по определению «затронутости» прав и законных интересов лиц в ходе уголовного судопроизводства, не дает надежных гарантий от необоснованного перевода обращений в «непроцессуальный» статус. И, наконец, рассматриваемая конструкция не является преградой для злоупотребления правом на ходатайство и жалобу, которое в последнее время отмечается исследователями [7, 9, 10].
Таким образом, являясь, несомненно, значимым и необходимым правозащитным инструментом, «фактический» статус лица, вовлеченного в уголовное судопроизводство, в то же время представляет собой «издержку» правоприменительной практики, которая должна преодолеваться путем совершения полноценных процессуальных действий по предоставлению определенного УПК РФ статуса. Ходатайство или жалоба «иного лица», принятая и разрешаемая в рамках уголовного дела, чаще всего говорит о том, что «фактический» статус лица не совпадает с «процессуальным», то есть в рамках дела ему не предоставлен весь необходимый инструментарий защиты прав и свобод человека. Круг «иных лиц» должен планомерно снижаться в связи с расширением круга субъектов с четко определенным (в том числе и во временных рамках) процессуальным статусом. Только систематизация и определение четкого уголовно-процессуального места, правового статуса лиц, в том числе и не упомянутых в разделе 2 УПК РФ, позволит максимально сузить круг неконтролируемого усмотрения по ограничению прав лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство.
Список литературы Статус участника уголовного процесса как условие реализации права на ходатайство и жалобу
- Андреева О. И. Допустимые пределы ограничения действия принципов уголовного судопроизводства (на примере принципа презумпции невиновности) / О. И. Андреева, О. А. Зайцев // Вестн. Томского гос. ун-та. - 2017. - № 424. - С. 193-198.
- Григорьев В. Н. Конституционный Суд Российской Федерации о внестатусном статусе некоторых участников уголовного производства / В. Н. Григорьев // Вестн. экономической безопасности. - 2016. - № 5. - С. 24-27.
- Григорьев В. Н. Новый инструмент правового регулирования статуса участников уголовного производства / В. Н. Григорьев, О. А. Зайцев // Вестн. Томского гос. ун-та. - 2016. - № 413. - С. 205-209.
- Максимов О. А. К вопросу об определении уголовно-процессуальной жалобы / О. А. Максимов // Аграрное и земельное право. - 2018. - № 9(165). - С. 134-140.
- Максимов О. А. Ходатайства и жалобы как способ реализации права на состязательное уголовное судопроизводство / О. А. Максимов // Российская юстиция. - 2013. - № 7. - С. 28-31.
- Максимов О. А. Ходатайство как способ защиты прав лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство: существенные черты / О. А. Максимов // Мировой судья. - 2019. - № 2. - С. 26-33.
- Насонова И. А. Ходатайства, жалобы, отводы: сходства и различия / И. А. Насонова // Вестн. Воронежского ин-та МВД России. - 2011. - № 1. - С. 34-38.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П "По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова" // Рос. газета. - 2000. - 1 июля.
- Тутикова И. А. Необоснованная жалоба в уголовном процессе / И. А. Тутикова // Вестн. Нижегородской акад. МВД России. - 2014. - № 4(28). - С. 304-306.
- Тутикова И. А. Ябедничество или необоснованное обжалование в уголовном процессе России / И. А. Тутикова // Вестн. Нижегородской акад. МВД России. - 2016. - № 2(34). - С. 451-453.