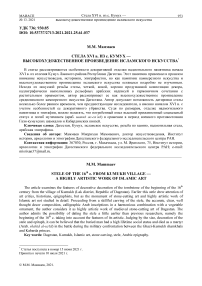Стела XVI в. из с. Кумух - высокохудожественное произведение исламского искусства
Автор: Маммаев М.М.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности декоративной отделки надмогильного памятника начала XVI в. из селения Кумух Лакского района Республики Дагестан. Этот памятник привлекал в прошлом внимание искусствоведов, историков, эпиграфистов, но как памятник камнерезного искусства и высокохудожественное произведение исламского искусства оставался подробно не изученным. Исходя из искусной резьбы стелы, четкой, ясной, хорошо продуманной композиции декора, каллиграфически выполненных рельефных арабских надписей в гармоничном сочетании с растительным орнаментом, автор рассматривает ее как высокохудожественное произведение средневекового камнерезного искусства Дагестана. Автор допускает возможность датировки стелы несколько более ранним временем, чем предшествующие исследователи, а именно началом XVI в. с учетом особенностей ее декоративного убранства. Судя по размерам, отделке надмогильного памятника и эпитафии, можно полагать, что погребенный имел высокий прижизненный социальный статус и погиб мучеником (араб. шахид ас-са’ид ) в сражении в период военного противостояния Гази-кумухских шамхалов и Кабардинских князей.
Дагестан, кумух, исламское искусство, резьба по камню, надмогильная стела, арабская эпиграфика
Короткий адрес: https://sciup.org/14123598
IDR: 14123598 | УДК: 736,
Текст научной статьи Стела XVI в. из с. Кумух - высокохудожественное произведение исламского искусства
Селение Кумух Лакского района Республики Дагестан, расположенное в горной зоне — один из древних и широко известных населенных пунктов Дагестана, где в эпоху средневековья было создано немало ценных памятников резьбы по камню, арабской эпиграфики, каллиграфии и орнаментики, представляющие собой высокохудожественные произведения исламского искусства Дагестана. К их числу относится рассматриваемая ниже мусульманская стела начала XVI в. Другое высокохудожественное произведение камнерезного искусства, арабской эпиграфики и орнаментики, датируемое 889 г. хиджры / 1484—1485 г., также находящееся в Кумухе, с подробным описанием особенностей декоративной отделки опубликовано нами в 2005 г. в специальной статье (Маммаев 2005: 103—119).
Описываемая стела — надмогильный памятник в виде вертикально поставленной у изголовья могилы погребенного высокой каменной плиты трапециевидной формы (низ несколько уже верха стелы), изготовленной серого мелкозернистого песчаника (рис. 1). Высота ее 143 см, ширина вверху 72 см, ширина внизу 62 см, толщина плиты 11 см. Памятник был зафиксирован нами, сфотографирован, а с его декора снят эстампажный отпечаток еще в 1976 г. С тех пор он оставался неопубликованным по разным причинам. Учитывая большую научно-познавательную и историческую значимость памятника, мы решили опубликовать его подробное описание с анализом особенностей художественной отделки.
Следует отметить, что рассматриваемый памятник давно привлекал внимание ученых. В 1966 г. общее и очень краткое описание его дал искусствовед П.М. Дебиров (Дебиров 1966: 49, 147, рис. 97). Краткое же описание памятника и перевод представленных в его нижней части рельефных арабских надписей в 1984 г. издал востоковед, проф. А.Р. Шихсаидов (Шихсаидов 1984: 293—295, рис. 122). Однако арабские надписи боковых вертикальных полос П-образной орнаментально-эпиграфической полосы остались не переведенными на русский язык из-за трудности чтения.
Только одна фотография стелы, без ее описания была опубликована и нами в 2005 г. (Маммаев 2005: 116, рис. 4) для сопоставления его декора с декором другого кумухского надмогильного памятника с датой 889 г. хиджры / 1484—1485 г., поставленного над могилой «паломника обеих святынь» (Шихсаидов, 1984: 290, рис. 119) (рис. 3).
Как памятник искусной резьбы по камню и как высокохудожественное произведение исламского искусства стела оставалась должным образом не исследованной.
Памятник находится на кладбище, носящем название Табахлу или Гьухъал (Хукал)1, расположенном за северной окраиной селения Кумух. Сохранность его удовлетворительная. Но под воздействием атмосферных явлений раскрошился левый верхний угол, частично задев декор. В меньшей степени отслоился правый верхний угол. Ниже этого угла с боковой стороны плиты имеется небольшой скол, который слегка затронул декор. Такой же скол имеется и в левой нижней части памятника. Самая нижняя часть стелы на всё её ширину
МАИАСП № 13. 2021
Стела XVI в. из с. Кумух — высокохудожественное произведение исламского искусства отслоилась от влаги и сырости, сохраняющейся в грунте сравнительно долгое время после дождя или таяния снега2.
По верхнему и боковым краям памятника располагается широкая (18,5 см с учетом свободных от декора боковых полос) П-образная орнаментально-эпиграфическая полоса, густо заполненная рельефной арабской надписью и рельефным растительным орнаментом. В средней части орнаментально-эпиграфических полос, с правой и левой сторон, симметрично располагаются два фигурных рельефных картуша (рис. 1, 2: 1 ), густо заполненных рельефным же растительным орнаментом сложной композиционной структуры и с относительной (свободной) зеркальной симметрией: верхняя и нижняя их половины одинаковые, они совпадают. Относительной симметрии потому, что в элементах орнамента имеются небольшие различия. Аналогичный фигурный картуш с подобной орнаментальной композицией помещен в горизонтальном положении в верхней части П-образной орнаментально-эпиграфической полосы, окаймляющей памятник (рис. 1).
Общая композиционная схема орнамента внутри этих трех картушей одинаковая, но абсолютно не совпадает, имеет незначительные отличия. Это свидетельствует о том, что картуши и орнамент в них выполнены мастером от руки, без трафарета, но по заранее нанесенному на каменную плиту рисунку. Об этом же свидетельствует и то, что размеры всех трех картушей не одинаковые: высота правого из них составляет 30 см, левого — 28 см, длина верхнего горизонтального — 31,5 см. Все это служит показателем высокого мастерства камнереза как орнаменталиста.
Орнамент на боковых (бордюрных) полосах представляет собой мотив, называемый в орнаментике «вьюнок» или «побегун» — волнистый побег стебля со спирально скрученными ответвлениями, несущими трилистники, полутрилистники, листочки разных форм.
Рельефная арабская надпись на П-образной орнаментально-эпиграфической полосе выполнена на фоне растительного орнамента. Но орнамент выполнен на одном уровне, в одной плоскости с рельефной надписью, равномерно и плотно заполняя свободные промежутки между буквами.
Арабскую надпись на П-образной орнаментально-эпиграфической полосе (прерываемую посередине картушами с орнаментом) специалистам-востоковедам Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН и факультета востоковедения Дагестанского государственного университета перевести пока не удалось. Буквы надписи несколько стилизованы, орнамент и надпись настолько переплетены и взаимосвязаны, образуя сложную вязь текста и декора, что трудно отделить их друг от друга. Вероятно, по этим причинам проф. А.Р. Шихсаидов, имевший большой опыт эпиграфиста, не перевел её.
Надписи и орнамент, представленные на памятнике, показывают, что мастер, выполнивший его резьбу, был не только опытным орнаменталистом, но и искусным каллиграфом.
Центральное поле памятника по вертикали, сверху вниз, разделено на 4 участка (рис. 1). На верхнем, самом большом участке, помещен листовидной (каплевидной) формы рельефный медальон (рис. 1, 2: 2 ), высотой 39 см (своего рода эмблема), заключенный в заглубленный прямоугольник (31,5 × 42,5 см). Медальон густо заполнен сравнительно
МАИАСП № 13. 2021
мелким рельефным растительным орнаментом относительной зеркальной симметрии — правая и левая половины её одинаковые, но абсолютно не совпадают. Имеются незначительные различия в элементах орнамента — трилистниках, полутрилистниках, листочках. Следовательно, и эта орнаментальная композиция выполнена мастером от руки, вероятно, предварительно начертившим её специальным металлическим инструментом с острым рабочим концом или другим инструментом.
По верхним и нижним краям медальона находились многолепестковые рельефные розетки, которые отслоились.
Ниже листовидного медальона в прямоугольнике располагается рельефный круглый медальон, заключенный в четырехугольник (30 × 30 см) (рис. 1, 2: 3 ). Медальон (диаметром 25 см) плотно покрыт растительным орнаментом в виде восьмиконечной плетенки рельефного растительного орнамента, имеющей в концах 4 трилистника и столько же полутрилистников с удлиненными и заостренными концами. В верхних и нижних углах четырехугольника находятся многолепестковые розетки.
Ниже участка с круглым медальоном расположены два прямоугольника. Внутренние размеры верхнего из них: высота 18 см, ширина 27 см. Размеры нижнего четырехугольника — 20 × 25 см. Четырехугольники плотно заполнены рельефными арабскими надписями, представляющие эпитафии и которые были переведены проф. А.Р. Шихсаидовым. Надпись в верхнем четырехугольнике гласит: «Это могила счастливого мученика»: надпись в нижнем прямоугольнике является продолжением предыдущей: «паломника обеих святынь, Мамма, сына Киласа» (Шихсаидов 1984: 294).
Надписи выполнены от руки в низком плоском рельефе почерком сульс . В надписи включены отдельные орнаментальные элементы в виде трилистников, полутрилистников, листочков разных форм, которые заполняют свободные промежутки между буквенной вязью и придают надписям декоративность. В левом углу надписи в верхнем четырехугольнике, представлен небольшой вьюнок — волнистый побег стебля, тянущийся снизу вверх и несущий трилистники и полутрилистники; там же расположен горизонтальный вьюнок, завершающийся полутрилистником (рис. 1). На обратную сторону надгробия нанесена арабская надпись — трудный для перевода коранический текст.
Как видно из надписи в четырехугольниках, данный памятник был поставлен на могилу духовного лица, совершившего хадж — паломничество в Мекку и Медину. Годы его жизни не известны. Памятник А.Р. Шихсаидов датировал ориентировочно серединой XVI в. (Шихсаидов 1984: 295). Возможно, он датируется началом XVI в. с учетом в определенной степени близости его художественной отделки к памятнику 889 г. хиджры / 1484—1485 г. (рис. 3). Общность его с последним проявляется в П-образном оформлении бордюра плиты, в отделке центрального поля медальонами с рельефным растительным орнаментом, в наличии рельефных арабских надписей в прямоугольниках в нижней части стелы, а также в том, что в обеих эпитафиях сообщается о погребенных, являвшихся «паломниками обеих святынь». Оба памятника расположены на кладбище Табахлу.
Известно, что размеры памятника, качество и богатство его художественного оформления служат определенными показателями прижизненного социального статуса погребенного. Судя по очень высокому уровню декоративного убранства рассматриваемого памятника XVI в., он был поставлен на могилу Маммы сына Киласа (как и памятник 889 г.х. / 1484—1485 г. на могиле Умара сына Ахмада — рис. 3) представителю духовной элиты средневекового Гази-Кумуха — важного политического, идеологического, административного и крупного торговоэкономического центра Дагестана, столицы одного из сильных и влиятельных феодальных владений — Гази-Кумухского шамхальства.
МАИАСП № 13. 2021
Стела XVI в. из с. Кумух — высокохудожественное произведение исламского искусства
Мамма ибн Килас, как и Умар ибн Ахмад, при жизни пользовался, должно быть, большим авторитетом, хорошо владел арабским языком, продолжал дело своего предшественника в укреплении позиций ислама, а до него (до Умара) и дело шейха, сайида, мударрис а (преподавателя) Ахмада ал-Йамани ал-Газикумухи ад-Дагистани, переселившего из Йемена в Гази-Кумух, прожившего там долгое время (1432—1450), умершего и похороненного там же в 1450 г. (Шихсаидов 2008: 181—186; 2010: 82—93).
О надписи, помещенной в нижних четырехугольниках, А.Р. Шихсаидов писал, что она «по своему содержанию и формуле сближается с двумя другими надписями (из Кумуха), в свое время зафиксированными Али Каяевым, но ныне не сохранившимися». Приведем здесь одну из этих несохранившихся надписей (ее приводил в своей книге и востоковед Л.И. Лавров (Лавров 1966: 149): «Юноша прекрасный, благородный, самый щедрый, славнейший, прощенный, счастливый, мученик, убитый в сражении с неверными чаркас, Мухаммад сын Уммал Мухаммада, – в месяц мухаррам девятьсот шестидесятого года». Мухаррам 960 г. хиджры приходится на конец декабря 1552 — конец января 1553 г. Далее А.Р. Шихсаидов заключает: «Возможно, Мамма, сын Киласа также был в числе «мучеников» в борьбе «с кафирами» за пределами Дагестана» (Шихсаидов 1984: 294—295). Замечу, что упомянутый Мухаммад сын Уммал Мухаммада являлся братом правителя Гази-кумухского шамхальства Будай-шамхала.
В этой связи следует отметить, что к середине XVI в. отношения между гази-кумухскими шамхалами и кабардинскими и черкесскими князьями резко обострились в борьбе за гегемонию на Северном Кавказе и в связи с военно-политической активизацией Крымского ханства и Османской Турции. В 1557—1559 гг. обе враждующие стороны старались заручиться поддержкой Москвы. Кабардинские князья просили у Ивана IV Грозного помощи в борьбе против шамхалов, а шамхалы просили у него поддержки в борьбе с черкесскими и кабардинскими князьями. В 1557 г. в русское подданство был принят сильный и пользовавшийся авторитетом кабардинский князь Темрюк Идаров. И этот военно-политический союз в 1560 г. был скреплен браком Ивана IV Грозного с дочерью Темрюка Марией. Иван IV занял сторону Кабарды (История Дагестана 2004: 382—383).
Гази-кумухские шамхалы, выступавшие в этот период союзниками Крымского ханства, совершали неоднократные походы на Кабарду, граница с которой в этот период проходила по Тереку. Одной из целей этих походов являлась и исламизация Кабарды. И не исключено, что Мамма, сын Киласа, был участником похода войск шамхала в Кабарду в начале XVI в., и погиб в одном из сражений «с неверными (т.е. немусульманами) чаркас» и был посмертно удостоен титула «счастливый мученик» (араб. шахид ас-са ’ид ).
Междоусобная борьба феодальных владетелей Дагестана и Кабарды продолжалась и в последующее время. В 1556 г. шамхал Будай совершил поход в Кабарду. Но в произошедшем сражении его отряд был разбит, а сам Будай погиб и тоже был удостоен посмертного титула «счастливый мученик», как об этом гласит эпитафия на его надмогильной стеле (Лавров 1966: 209; Шихсаидов 2008: 295). Обращает внимание, что на всех упомянутых трех стелах, относящихся к очень близкому хронологическому диапазону и принадлежавших шамхалу Будаю, его брату Мухаммаду и некоему Мамме сыну Киласа, фигурирует почетный посмертный титул шахид ас-са ’ид . Замечу, что этот же титул фигурирует в эпитафии на стеле с П-образной полосой некоего Вали-Шаха сына Шакила, погибшего в 915 г. хиджры (апрель 1509 — апрель 1510 г.) при осаде Дербента войсками шаха Исмаила (Gadjiev 2019: 139—144; Гаджиев, Фризен 2020: 1039—1040, рис. 5, 6).
Искусная резьба стелы, четкая и ясная, хорошо продуманная композиция всего декора, взаимосвязь его частей и деталей, мастерски выполненные композиции П-образного
МАИАСП № 13. 2021
обрамления стелы и медальонов центрального поля, симметрия и соразмерность узорных элементов, каллиграфически исполненные арабские надписи – все это позволяет отнести описанный надмогильный памятник к высокохудожественному произведению средневекового исламского искусства Дагестана.
На мусульманском кладбище Хукал других, так высокохудожественно отделанных памятников, как памятники 889 г. хиджры и описанный нами начала XVI в., отсутствуют. Но имеются стелы, которые декорированы на довольно высоком уровне арабскими надписями, а растительный орнамент в их отделке занимает незначительное место.
Мы уже писали о том, что, в декоративном оформлении надмогильных памятников Кумуха, относящихся к XV в., доминирует растительный орнамент (Маммаев 2005: 103). С XVI в. декор кумухских памятников значительно меняется. В декоративных целях стали очень широко использовать арабские надписи — изречения из Корана, которые наносились на лицевую и обратную стороны памятников, а растительный орнамент в их художественной отделке занимал скромное место. Вырабатывается особый стиль украшения надгробий – так называемый «шамхальский стиль» (Лавров 1957: 382; Дебиров 1966: 50—51). Все это было связано, вероятно, с дальнейшим усилением позиций ислама в средневековом Кумухе и превращением этого селения в очаг распространения мусульманской религии в Дагестане и за его пределами (История Дагестана 1967: 198; Гаджиев, Давудов, Шихсаидов 1996: 336—337), что обусловило прибавление к названию этого исламского центра почетного эпитета гази («воитель за веру») и селение стало именоваться Гази-Кумух (История Дагестана 1967: 198).
На рассмотренных выше надмогильных памятниках XV—XVI вв. «паломников обеих святынь» представлены имена представителей духовной элиты средневекового Гази-Кумуха — предшественников известных по данным Назира из Дургели выдающихся ученых и богословов из этого селения (Назир ад-Дургели 2012: 35—38, 130—133).
Средневековые надмогильные памятники из Кумуха и других лакских селений представляют значительный интерес и в том аспекте, что на них представлены начальные образцы традиционного лакского растительного орнамента, получившего впоследствии, особенно в XIX — начале XX в., большое развития и совершенство (Дебиров 2001: 47—59).
Список литературы Стела XVI в. из с. Кумух - высокохудожественное произведение исламского искусства
- Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. 1996. История Дагестана с древнейших времен до конца XVв. Махачкала: ДНЦ РАН.
- Гаджиев М.С., Фризен С.Ю. 2020. Средневековое мусульманское захоронение мужчины с боевыми травмами у стен Дербента. История, археология и этнография Кавказа 16.4. 1034—1048.
- Дебиров П.М. 1966. Резьба по камню в Дагестане. Москва: Наука.
- Дебиров П.М. 2001. История орнамента Дагестана. Возникновение и развитие основных мотивов. Москва: Наука.
- История Дагестана 2004: Османов А.И. (ред.). 2004. История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т. 1. История Дагестана с древнейших времен до ХХ века. Москва: Наука. История Дагестана. 1967. Т. 1. Москва: Наука.
- Лавров Л.И. 1957. Из эпиграфических находок Дагестанской экспедиции. Сборник Музея антропологии и этнографии 17, 373—384.
- Лавров Л.И. 1966. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи Х—ХУ11 вв. Москва: Наука.
- Маммаев М.М. 2005. К интерпретации орнаментального декора памятника камнерезного искусства и арабской эпиграфики XV в. из с. Кумух. Вестник Института истории, археологии и этнографии 2, 103—119.
- Назир ад-Дургели 2012. Шихсаидов А.Р., Кемпер М., Бустанов А.К. (пер., комм.). 2012. Услада умов в биографиях дагестанских ученых (Низхат ал-азхан фи тараджим "улама" Дагистан). Дагестанские ученые X-XX вв. и их сочинения. Москва: Марджани.
- Шихсаидов А.Р. 1984. Эпиграфические памятники Дагестана X—XVII вв. как исторический источник. Москва: Наука.
- Шихсаидов А.Р. 2008. Очерки истории, источниковедения, археографии средневекового Дагестана. Махачкала: Дагкнигоиздат.
- Шихсаидов А.Р. 2010. Ахмад ал-Йамани. В: Аликберов А.К., Бобровников В.О. (сост., отв. ред.). Дагестан и мусульманский Восток. Москва: Марджани, 82—93.
- Gadjiev M. 2019. A Burial of 915 A H. at the Walls of Derbent. Iran and the Caucasus 23.2, 139—144.