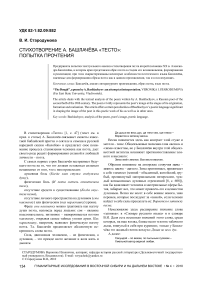Стихотворение А. Башлачёва «Тесто»: попытка прочтения
Автор: Стародумова Вероника Ильинична
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Литературоведение. Культурология
Статья в выпуске: 4 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка текстуального анализа стихотворения поэта второй половины ХХ в. Александра Башлачёва, в котором ярко представлен образ поэта в стадии его возникновения, формирования и реализации; при этом охарактеризованы некоторые особенности поэтического языка Башлачёва, значимые для формирования образа поэта как в данном произведении, так и в последующих.
Башлачёв, анализ литературного произведения, образ поэта, язык поэта
Короткий адрес: https://sciup.org/170175243
IDR: 170175243 | УДК: 82-1:82.09:882
Текст научной статьи Стихотворение А. Башлачёва «Тесто»: попытка прочтения
В стихотворении «Тесто» [1, с. 47] (текст см. в прил. к статье) А. Башлачёв связывает сюжеты известной библейской притчи о сеятеле и семени и русской народной сказки «Колобок» и предлагает свое понимание процесса становления человека как поэта, дает своего рода рецепт формирования сильной и любящей личности – поэта.
С самых первых строк Башлачёв настраивает будущего поэта на то, что тот должен оставаться сильным независимо от того, что с ним происходит:
душевная боль (Когда злая стужа снедужила душу), физическая боль (И люта метель отметелила тело), отсутствие средств к существованию (Когда опустела казна), отсутствие личного пространства на духовном (сны наизнанку) или физическом (пах нараспашку) уровне.
Фразу сны наизнанку можно трактовать как наготу души поэта, исповедь перед людьми: сон – явление подсознательное, интимное – выворачивается поэтом наизнанку , открывая самые тайные уголки души. Пах нараспашку , напротив, выявляет физическую наготу поэта. Т.е. Башлачёв предполагает абсолютную искренность слова поэта.
Сила, двигающая человеком, – не физическая, а духовная, – это прежде всего желание и воля жить и дышать:
Да дыши во весь дух, да тяни там, где тяжко – Ворвется в затяжку весна.
Весна появляется здесь как контраст злой стуже и метели – зиме. Общеязыковые значения слов «весна» и «зима» известны, но у Башлачёва внутри этой общеизвестной антитезы возникает противопоставление земного и высокого:
Зима жмёт земное. Все вести весною.
Обратим внимание на авторские созвучия зим а – зем ное, вес ти – вес ною . Зима притягивает, прижимает к себе «земное» (земной – обыденный, житейский, грубый, проникнутый материальными интересами, чуждый возвышенных духовных стремлений [8, с. 608]), как бы вдавливает человека в материальные сферы бытия, забирает все, что может привлечь его к ценностям духовным. Весна же несет в себе веяние нового, знак перемен, которые последуют за «зимой», если человек найдет в себе силы преодолеть ее: Ворвется в затяжку весна .
Немаловажно здесь расширение значение слова «затяжка»: в «Словаре русского языка» и в словаре В.И. Даля есть несколько значений этого слова, среди которых, на наш взгляд, ближе всего «глоток табачного дыма, втянутый в себя при курении», только у Башлачёва это жадный глоток воздуха: Дыши во весь дух .
А далее:
Секундой – по векам, по пыльным сусекам – Хмельной ветер верной любви.
Т.е. в мгновение, в секунду будущего поэта по векам овеет хмельной ветер верной любви (любовь, сходная с опьянением). Можно усмотреть здесь реминисценцию стихотворения «Пророк» А. Пушкина: Перстами легкими как сон / Моих зениц коснулся он. / Отверзлись вещие зеницы, / Как у испуганной орлицы [4, т. 2, с. 149]). Лирический герой прозреет, т.е. начнется его перерождение в поэта. Пройдется ветер весны и по пыльным сусекам , где обычно хранят зерно (реминисценция русской народной сказки «Колобок»: «Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки пригоршни с две» [3, с. 28]). К мотиву зерна, одному из доминирующих в поэзии Башлачёва, мы еще вернемся.
Далее возникает образ, значимый в библейской притче о сеятеле и семени:
Тут дело не ново – словить это Слово, Ты снова, и снова, и снова – лови.
Тут дело простое – нет тех, кто не стоит, Нет тех, кто не стоит любви.
Итак: Тут дело не ново – словить это Слово , т.е. «словить» семя – «слово Божие» ( Вот что значит притча сея: семя есть слово Божие [2, с. 361]). Во-первых, «Слово» начинается с заглавной буквы, что уже само по себе отсылает нас к Библии и ее священному отношению к слову как таковому. Во-вторых, поэт призывает «словить» это Слово, т.е. услышать его. Сравним с притчей: кто имеет уши слышать, да слышит [2, с. 361].
Троекратный повтор снова усиливает смысл повторяющегося действия лови , т.е. слушать и слышать Слово нужно не единожды, а постоянно.
Речь здесь, видимо, идет об одной из десяти заповедей: возлюби ближнего своего, как самого себя. На первый взгляд, это дело простое и нет людей, недостойных любви. Но, заглядывая вглубь себя, поэт понимает сложность подобной любви:
Да как же любить их – таких неумытых, Да бытом пробитых, да потом пропитых?
Любовь к ближнему предстает нелегкой задачей, о чем свидетельствуют эпитеты неумытые , бытом пробитые , потом пропитые ; далее по тексту чужие , неизвестные – по отношению ко всему миру, который надо суметь полюбить и который объединяется в понятие «ближние».
Да ладно там – друга, начальство, коллегу, Ну ладно, случайно утешить калеку, Дать всем, кто рискнул попросить.
Можно понять и принять любовь к ближнему, когда это друг , начальство , коллега , калека (его жалеют), все, кто рискнул попросить , подруга , дочь , невеста . Но как можно любить так же чужих и неизвестных?
А как всю округу, чужих, неизвестных, Да так – как подругу, как дочь, как невесту, Да как же, позвольте спросить?
Анафорически повторенное выражение тут дело простое в следующей строфе по смыслу оказывается еще сложнее, чем в первом предъявлении:
Тут дело простое – найти себе место Повыше, покруче. Пролить темну тучу До капли грозою – горючей слезою – Глянь, небо какое!
Сорвать с неба звезды пречистой рукою,
Смолоть их мукою
И тесто для всех замесить.
Структура и лексика этих строк напоминает рецепт приготовления теста, о чем свидетельствует смысловой ряд глаголов в форме инфинитива: найти, пролить, сорвать, смолоть, замесить . Но этот «рецепт» представляет собой сложную метафору:
-
1) вместо съедобных жидких ингредиентов пролить «темну тучу»; к тому же « пролить… горючей слезою », т.е. необходимо очистить небо – свою душу от грехов страданиями ( горючей слезою );
-
2) вместо плодов (с деревьев) сорвать с неба звезды : вынуть из очищенной от грехов ( пречистой рукою ) души высокие чувства ( звезды ), т.е. любовь;
-
3) смолоть их мукою – впустить любовь в свое сердце, почувствовать и принять ее; здесь появляется образ зерна: смолоть звезды – смолоть зерно. «И любовь есть зерно», – сказал А. Башлачёв в интервью для спектакля «Наблюдатель» (весна 1986 г.) [1, с. 201].
-
4) замесить тесто для всех – соединить все компоненты и создать нечто цельное для передачи другим людям, «ближним», посредством стихов. Вновь обратимся к интервью 1986 г.: «Не существует чистой любви во плоти. Всегда что-то примешивается. ‹…› Это уж какой замес, какое в тебе тесто! Тесто же бывает совершенно разное, смотря для чего – пирожок испечь, или блины, или белый хлеб, или черный. Все это нужно в жизни. Но в основе всё равно зерно. И любовь есть зерно, а всё остальное зависит от того, какую задачу ты перед собой ставишь» [1, с. 201–202].
Дальнейшие действия поэта понятны:
А дальше – известно. Меси свое тесто
Да неси свое тесто на злобное место – Пускай подрастет на вожжах.
Союз-скрепа «а» вместе с конкретизатором «дальше» имеет противительно-распространительное значение. Человек должен подготовить себя к будущим испытаниям, окончательно сформироваться внутренне. «Злобное место» созвучно «лобному месту» («возвышение, с которого в старину объявлялись царские указы и на котором совершались казни и наказания» [6, т. 2, с. 261]). Башлачёв добавляет одну букву «з», и смысл словосочетания изменяется, т.е. меняется метафорический смысл: «лобное место» – понятие физическое, «злобное место» – понятие метафизическое, местом скопления зла предстает мир.
Пускай подрастет на вожжах – следующий этап становления поэта. «Вожжи» созвучны слову «дрожжи», что применимо к прямому смыслу, т.е. изготовлению теста: чтобы тесто увеличилось в объеме, стало более рыхлым, надо добавить дрожжи и поставить в теплое место. Созвучные дрожжам «вожжи» добавляют высказыванию новый метафорический компонент:
в мире ( злобном месте ) душу будущего поэта должны «выпороть», испытать «вожжами», злом.
Для завершения становления человека как поэта и рождения поэтического слова (изготовления хлеба, колобка) необходимо пройти последнюю стадию – огонь, печку :
Сухими дровами – своими словами, Своими словами держи в печке пламя, Да дракой, да поркой – чтоб мякиш стал коркой, Краюхой на острых ножах.
Поэт не имеет права молчать, ему необходимо нести свое слово людям, хотя, как правило, он обжигается о негативное отношение человечества к своему слову, своей поэзии. Поэт разрывает текстуальный смысл фразы и совмещает в одном простом предложении одновременно и прямой, и переносный смысл: противопоставление дрова (физическое понятие) – слова (метафизическое).
Слова как метафорический антипод дровам являются топливом для поддержания огня в печи – в человеческом обществе, которое противится влиянию поэта, спорит с ним; в этом противостоянии рождается пламя . Конфликт с обществом ( дракой да поркой ) укрепляет поэта, делает его более сильным, устойчивым ( чтоб мякиш стал коркой ). Как пламя превращает тесто в хлеб, «краюху», готовую к тому, чтобы быть порезанной ( на острых ножах ), так и поэт должен быть готов к неприятию ближними, к «острым» языкам. И если поэт пройдет это последнее испытание, не сгорит, то будет вознагражден любовью.
И вот когда с пылу, и вот когда с жару – Да где брал он силы, когда убежал он?! – По торной дороге и малой тропинке Раскатится крик Колобка…
Башлачёв разрывает фразеологизм «с пылу с жару» («о чем-либо горячем, только что сваренном, испеченном, поджаренном» [6, т. 3, с. 762]) надвое (тем самым реализуя метафору), соединяя каждую часть с повторяющимся сочетанием союзов и частицы «и вот когда». Обратим внимание на тот факт, что в «Тесте» выражение «с пылу с жару» по семантике относится одновременно и к Колобку как куску теста, который только что испекли, и к образу поэта, перенесшего закалку в печи, и к крику – новому Слову поэта.
Вставное предложение Да где брал он силы, когда убежал он?! выражает недоумение и вместе с тем восхищение Колобком, нашедшим силы пуститься в неизведанный путь.
После того как поэт «испечется», по торной дороге и малой тропинке раскатится крик Колобка . (В более раннем варианте этой строки (январь 1986 г.): По главной дороге и малой тропинке ). Поэт должен идти любыми путями – и торными, и своими, непроторенными.
На самом краю овражины-оврага, У самого гроба казенной утробы.
В конце пути поэт должен преодолеть преграды – пройти по краю «овражи′ны-оврага» (в данном словосочетании есть созвучие овраг – враг) и через от- решение от своей физической ипостаси – «казенной утробы» – тела, данного человеку, – умерщвление ее. В слове казенный словари выделяют значения: «принадлежащий казне, правительству, государству; противоп. частный, владельческий» [8, с. 74]; «бюрократический, формальный, лишенный всякой оригинальности, шаблонный» [6, с. 15]; «банальный, шаблонный» [7, с. 274275]. Ни одно из этих значений в полной мере к нашему случаю не подходит. У Башлачёва слово «казенный» выступает в значении принадлежащий не человеку, данный ему временно кем-то свыше. Казенная утроба – тело, данное человеку временно. И только отрешившись от своей физической ипостаси, поэт сможет стать настоящим: слова его «подхватит любовь» и вознесет в облака во благо человечеству, сделает общечеловеческим достоянием. В строках
…успеет во благо,
Во благо облечь в облака… повтор «во благо» расширяет его семантику: это одновременно и «слава богу, успеет», и «успеет любовь поднять горячее поэтическое слово до облаков во имя людей, во имя их счастья».
Аллитерация обогащает смысл дополнительными коннотациями. В словаре В.И. Даля «обл» значит «круглость»: облый («круглый»), облецъ («вал, круглый ва-лекъ, скалка»), облость («круглина»), обелъ («круглый холоп») и т.п. Это значение создает аллюзию для образа Колобка. Колобок, по Далю, «скатанный ком, шар, груда, валенец, скатанец; небольшой круглый хлебец». Возможно, через аллитерацию «обл» Башлачёв соотносит понятие любви с чем-то круглым – в данном случае с Колобком. К тому же существует фразеологизм «печь колобы», что значит «острить, шутить, балясничать».
На этом рецепт приготовления настоящего поэта Башлачёв завершает и обращается к человеку, который встал на тернистый поэтический путь, но еще не прошел всех испытаний: Но всё впереди, а пока еще рано, / И сердце в груди не нашло свою рану . Поиски раны необходимы для того, чтобы в исповеди быть с любовью на равных / И дар русской речи беречь . Исповедь – это стихи, слово поэта, и в этой исповеди поэт должен быть на равных с любовью, т.е. вознестись до нее. И беречь язык, данный ему от рождения. Здесь мы наблюдаем трансформацию фразеологизма потерять дар речи с внесением нового смысла. Родной язык необходимо беречь (или «сберечь» – вариант января 1986 г.). Возможна ассоциация с ахматовским «сохраним тебя, русская речь».
Итак, поэт, не изменяя выбранному пути, должен …жить и ловить это Слово упрямо, Душой не кривить перед каждою ямой, И гнать себя дальше – все прямо да прямо, Да прямо – в великую печь!
Фразеологизм «кривить душой» (т.е. лгать) в данном случае продолжает ассоциацию с образом Колобка: поэт-Колобок должен катиться прямо вперед и не огибать ям (т. е. опять же не искривлять свою дорогу, а идти честно и прямо, не ища легких путей).
«Великая печь» в данном стихотворении – это место, где поэт должен выпекать свое, с пылу с жару Слово, от которого каждому, каждому станет светло.
Финальная строфа отсылает нас к началу стихотворения, но акцентирует внимание не на страданиях, а на том, что страдания эти необходимы для той цели, которую поэт должен поставить перед собой:
Когда злая стужа снедужила душу
Да что тебе стужа – гони свою душу.
И люта метель отметелила тело
Пусть время пройдется метлою по телу.
Сходная лексика подчеркивает противопоставительный акцент. Поэт должен не сосредоточиваться на себе, но нести свет людям: Да что тебе стужа – гони свою душу / Туда, где все окна не внутрь, а наружу . Проходя испытания, поэт накапливает разнообразный опыт: Посмотрим, чего в рукава налетело. / Чего только не нанесло !. Автор сравнивает душу поэта, открытую для каждого, с шилом, трансформируя известный фразеологизм «в мешке шила не утаишь»: Да не спрячешь души – беспокойное шило .
Строки наставления Башлачёва «новоиспеченному» поэту
Так живи – не тужи, да тяни свою жилу, Туда, где пирог только с жару и с пылу, Где каждому, каждому станет светло… являются финальным аккордом идеи, воплощенной в стихотворении. Поэзия предстает как источник света (Каждому станет светло), лишь когда она выстрадана, «вытянута жилой» из души поэта.
Таким образом, зарождение и развитие поэтического таланта в художественном сознании А. Башлачёва воспроизводится как своего рода рецепт, представляющий собою сложную метафору – несколько стадий развития главного образа. Будущему поэту необходимо очистить душу страданиями, выносить в очищенной душе любовь к «чужим и неизвестным», слепить из выстраданной любви нечто цельное, пройти испытание мирским злом, сплавить в «великой печи» «уловленное» Слово и всё, что «нанесло время», с любовью и «раной» своего сердца. И только тогда «горячее слово» поэта согреет и осветит душу того, кто его услышит.
Список литературы Стихотворение А. Башлачёва «Тесто»: попытка прочтения
- Башлачев А. Как по лезвию. М.: Время, 2007. 256 с.
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета/Библ. комиссии. Духовное просвещение, 1991. Т. 2. 624 с.
- Колобок//Народные русские сказки из изборника А.Н. Афанасьева: в 3 т. М.: Худож. лит., 1977. С. 28-29.
- Пророк//Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 10 т. М.: Гос. изд-во худ. литературы, 1959. Т. 2. С. 149.
- Словарь русского языка. В 4 т. М.: Рус. язык, 1981. Т. 1. 696 с.
- Словарь русского языка. В 4 т. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. Т. 2. 1016 с.; Т. 3. 992 с.
- Словарь языка Пушкина. В 4 т. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1957. Т. 2. 896 с.
- Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1955. Т. 2. 780 с.