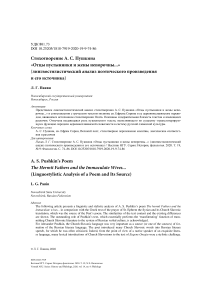Стихотворение А. С. Пушкина "Отцы пустынники и жены непорочны..." (лингвостилистический анализ поэтического произведения и его источника)
Автор: Панин Леонид Григорьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Представлен лингвостилистический анализ стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...» в сопоставлении с греческим текстом молитвы св. Ефрема Сирина и ее церковнославянским переводом, явившимся источником стихотворения Поэта. Показаны содержательная близость текстов и имеющиеся различия. Отмечена выдающаяся роль пушкинского текста, выполняющего по существу «транслитерирующую» функцию передачи церковнославянской словесности в систему русской словесной культуры.
А. с. пушкин, св. ефрем сирин, великий пост, стихотворное переложение молитвы, лексические соответствия и различия
Короткий адрес: https://sciup.org/147220485
IDR: 147220485 | УДК: 801.73 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-9-74-86
Текст научной статьи Стихотворение А. С. Пушкина "Отцы пустынники и жены непорочны..." (лингвостилистический анализ поэтического произведения и его источника)
Стихотворение А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...» входит в так называемый каменноостровский цикл, стихотворения которого объединены переживаниями Страстной седмицы и Пасхи 1836 г. и создавались в те дни, когда умирала мать Поэта [Долгушин, Цыплаков, 2000. С. 98]. Три стихотворения «Отцы пустынники...», «Подражание ита-лиянскому», «Мирская власть» всегда вызывали большой интерес пушкинистов [Лепахин, 1996; Науменко, 2014; Седова, 2010; Старк, 1982; Фомичев, 1985], а С. Давыдов [1992–1993] удачно назвал их «пасхальным триптихом».
Автора статьи интересует лингвостилистическая характеристика стихотворения, хотя по существу в первую очередь нужно говорить о лингвистическом аспекте анализа этого произведения. Для А. С. Пушкина очень многое значил церковнославянский язык как источник (один из источников) формирования русского литературного языка. Поэт многое из церковнославянского словаря ввел в русскую литературную речь, за что подвергался критике. Поэт расширил лексическое поле русского языка за счет церковнославянского словаря, это ярко и наглядно проявилось в «Евгении Онегине», но есть произведения, где церковнославянский лексический фонд логично вписывается в тематику, не вызывая нареканий пурификаторов литературных норм, но также служит целям лексического расширения русского языка [Тимофеев, 2000]. Безусловно, к таким произведениям относится и анализируемое стихотворение.
Греческий источник и его русский перевод
Греческий текст молитвы св. Ефрема Сирина, главной молитвы Великого поста (она читается Великим постом в храмах по средам и пятницам, а также в первые три дня Страстной седмицы):
Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς, καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαι μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Эта молитва, вошедшая в золотой фонд православного великопостного богослужения, была написана в IV в. по Р. Х. Её создатель – прп. Ефрем Сирин, один из великих Отцов Церкви, богослов и поэт. По своему происхождению он был сирийцем, писал на родном языке. К счастью, еще при жизни его творения были переведены на греческий язык. К счастью, потому что дошли до нас они именно на греческом.
Русский перевод молитвы (с ориентацией на церковнославянский текст):
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, многоделания, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Церковнославянский текст молитвы, читаемый в наших храмах
Текст приводится в современной орфографии:
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Греческий текст и его церковнославянское соответствие
Есть одна важная особенность в церковнославянском переводе греческого текста. В первом прошении сразу после слов «дух праздности» вместо привычного для нас «уныния» находим «многоделание», но именно так молитва звучит по-гречески: Κύριε και Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας , φιλαρχίας και ἀργολογίας μή μοι δῷς.
При переводе на церковнославянский язык древнегреческое слово ἡ περιεργία «излишний труд, многоделание», «чрезмерная деятельность» (а это стояло на втором месте в списке грехов) было заменено унынием. Причины такого перевода непонятны. В старославянских текстах слово ѹныниѥ имело значения ‛малодушие, уныние’, ‛печаль’ [Сл. стсл. яз., 2006. Т. 4. С. 664], и им переводились греческие слова ἀθυμία, ἀκηδία [Miklosich, 1862–1865. Р. 1057]. Грех уныния здесь предстает как продолжение греха праздности.
В греческом тексте находим симметрию. Первое слово в списке грехов – ἡ ἀργία – «праздность», «лень» – дословно означает «безделье» (не-делание). Оно образовано с помощью отрицательной приставки ἀ- (это так называемая α-privativum) и слова τὸ ἔργον – «дело», «работа», «труд». Следующее слово – ἡ περιεργία – приставочное образование от того же слова τὸ ἔργον, приставка περι- обозначает «сверх», «чрезмерно». Таким образом, по-гречески первые слова означают «не дай мне духа безделья, многоделания». Выходит, что одинаково неправильны как духовная праздность, так и многоделание, поскольку в последнем случае за суетой, второстепенными делами мы забываем о главном (ср.: марѳо , марѳо , печешисѧ и молвиши ѡ мнозѣ , едино же есть на потребу – слова Христа (Лк. Х 41–42)).
Кроме того, в греческом тексте мы находим «краесогласие» в перечисляемых словах, обозначающих «отрицательных духов»: πνεῦμα ἀρ γίας , περιερ γίας , φιλαρ χίας και ἀργολο γίας μή μοι δῷς.
Текст стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...»
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья.
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи
(1836 г.).
Комментарии к словарному составу стихотворения
Сердцем возлетать – аллюзия к тексту литургии. На божественной литургии во время анафоры (в переводе с греческого это означает «возношение», греч. ἡ ἁγία ἀναφορά ), центральной части Евхаристии, священник возглашает: «Горѣ имѣимъ сердца!» (Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας, т. е. «Устремим вверх наши сердца»). И хор от лица всех молящихся отвечает: «Имамы ко Господу» (Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον, «Устремлены [имеем сердца наши ] к Господу»). И в этих словах заложено противопоставление горнего и дольнего мира (см. ниже), которое часто становилось центральным объектом внимания Поэта. Вот слова пушкинского пророка после его встречи с шестикрылым серафимом: И внял я неба содроганье, И горний ангелов полёт, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье («Пророк» А. С. Пушкина). Примечательны здесь употребленные в ближайшем контексте слова горний и полёт , дольний и прозябанье . И здесь не только отсылка к божественной Евхаристии, здесь корни православного мировосприятия, «взрастившие» многие образы церковнославянской и русской словесности, ср.: горьнии ‛небожители’, дольнь ‛нижний’ [Сл. стсл. яз., 2006, Т. 1. С. 422, 503], сего дѣльма горнии земьноѥ сп ( а ) сениѥ проповѣдающе [Усп. сб., 1971. С. 387], также см. [Сл. яз. Пушкина, 1956. Т. 1. С. 523, 696].
Заочный – ‛не видимый взору’, но здесь ‛небесный, не-земной’, и это значение благодаря предшествующему употреблению словосочетания сердцем возлетать становится ярким нововведением Поэта в русский словарь, хотя говорить о неологизмах А. С. Пушкина можно с большой долей условности, поскольку его языковой творческой установкой было ничего не придумывать, но соединять то, что уже было в языке [Панин, 2000; 2018]. И выражение области заочны в контексте лингвистического творчества Поэта стоит в одном ряду со словосочетаниями пирог нетленный , себя в коня преобразив (оба примера из «Евгения Онегина») и др.
Средь – ‛среди’. Цсл. срѣди и его разговорная форма срѣдь к XIX в. прочно утвердились в русском языке, в том числе и в поэтической речи ( Среди долины ровныя … у А. Ф. Мерзлякова; Средь шумнаго бала случайно … у А. К. Толстого и др.), но за обеими формами, как мне представляется, стояла «строгая» (и совершенно определенная, высокая) книжность.
Дольный – прилагательное к дол ‛долина’, здесь эквивалент слову земной, но с семантическим уточнением ‛не-небесный, не-горний’. Если прилагательные небесный и земной были автономны и имели лишь возможность входить в антонимические отношения, то горний и дольный (дольний) этими отношениями были определены изначально – благодаря церковнославянской традиции; см.: горѣ и долѣ, горѣ и долѹ [Miklosich, 1862–1865. Р. 138]. Может быть, один из лучших образцов этого противопоставления находим в переводе Слова на Вербное воскресение прп. Иоанна Златоуста. Этот перевод был помещен в древнерусском сборнике XII–XIII вв.: Д(ь)нь(сь) ц(еса)рь славы на земли пророчьскы славимъ ѥсть. и прича-стьникы н(е)б(е)сьнѹѹмѹ веселию. земныя сътвори. да покажеть яко тъ ѥсть г(оспод)ь обоимъ. акы ѿ обоихъ ѥдинѣмъ гла(со)мь съ о(ть)цьмь и съ д(ѹ)хъмь хвалимъ. сего дѣльма горьнии земьноѥ сп(а)сениѥ проповѣдающе пояхѹ… а дольнии н(е)б(е)сьнымь веселиемь кѹпьно праздьнѹюще зовѧхѹ… [Усп. сб., 1971. С. 387]. Здесь прилагательные небесный и земной, горний и дольний в сложном переплетении своего употребления демонстрируют, как мне представляется, начало того явления, которое спустя столетия (когда филолог поймет, что звучащая речь достойна внимания и изучения) станет предметом лингвистического исследования и войдет в наш обиход как антонимия и синонимия.
Умилять – ‛приводить в умиление, трогать’; умиление – ‛чувство нежности, возбуждаемое чем-л. трогательным’. Этимологически здесь тот же корень, что и в словах мил , милый и мир . Поэтому умиление – это и чувство покоя, спокойствия, душевного умиротворения. Показательно, что одним из значений прилагательного умильный в русских народных говорах является ‛довольный, умиротворенный’ [СРНГ, 2014. Вып. 47. С. 186].
Печальный – эпитет к Великому посту . Прилагательное образовано от слова печаль , которое в XIX в. было известно также в устаревшем значении ‛попечение, забота’ [Сл. цсл. и рус. яз., 2001. Т. 3. С. 216], и случаи употребления данного слова в этом значении достаточно многочисленны в древнерусских памятниках, см. [Срезневский, 1958. Т. 2. Ст. 923], убедительным примером здесь может быть отрывок из «Жития прп. Феодосия Печерского» по одному из самых ранних списков: Сии ѹбо о ( те ) ць нашь ѳеѡдосии с ( вя ) тыи. побѣдоносьць показа ся въ пещерѣ на злыя д ( у ) хы. по острижени же м ( а ) т ( е ) ре своея и по ѿврьжении всякоя мирьскыя печали. большими трѹды паче наченъ подвизати ся на рьвениѥ б ( о ) жиѥ [Усп. сб., 1971. С. 83]. Слова отвержение ( отстранённость ) от мирской печали ( заботы ) является лучшим комментарием к эпитету печальный в этом стихотворении А. С. Пушкина.
Великий ( пост ) – великий не только и не столько потому, что многодневный, а потому, что самый важный из постов. Этот эпитет устойчиво входил в важные и привычные для русского человека XIX в. словосочетания, связанные с этим периодом жизни православного человека: Великий пост = Великая четыредесятница (в архангельских говорах это Велико-говѣнье ), Великая седмица ‛страстная седмица’, Велик-день ‛светлое Христово Воскресение’ [Даль, 1978. С. 176].
Уста – возвыш. ‛губы, рот’. Приходить на уста – пушкинское выражение, построенное как отсылка в тексту Священного Писания, но там среди более пятисот употреблений слова уста и его форм [Полная симфония…, 2006. С. 2318–2324] нет такого фразеологизма. Его создал сам Поэт по образцу уже существовавших в русском языке приходить на ум , приходить в голову .
Праздность – от праздный , вост.-слав. порожний , т. е. ‛пустой’; греч. ἡ ἀργία: праздность ‛пустота’ [Срезневский, 1958. Т. 2. Ст. 1367] – всего одна цитата по позднему списку; см. также: [Miklosich, 1862–1865. P. 657], но прилагательное праздьныи очень употребительно, уже начиная с самых ранних текстов: ‛праздный, находящийся без дела, не имеющий дела’, ‛праздный, незанятый, пустующий’, ‛отрешённый (от обязанностей, от службы)’, ‛празднич-ный’, ‛относящийся к праздникам, приносимый в праздник’, ‛напрасный, незаслуженный’, ‛пустой, незначительный: праздьныя словеса – суесловие, празднословие’, ‛не имеющий значения, недействительный (?)’ [Срезневский, 1958. Т. 2. Ст. 1367–1368]. Ср.: празьный ‛сво-бодный, праздничный: празьная недѣля – неделя св. Пасхи, Светлая неделя’ [Там же, Ст. 1367–1369]. Более простым и, казалось бы, более логичным должен быть перевод ἡ ἀργία словом безделиѥ . Ср.: бездѣлиѥ ‛досуг’, ‛ἀπραξία, праздность’, в последнем значении уже в Синайском патерике XI в.: вь вьсьмь бездѣлии [Там же. Т. 1. Ст. 56–57]. Но слова безделье , бездельный , обычные в деловой и бытовой письменности XV–XVII вв., видимо, издавна входили в разговорный фонд русского языка, а потому не могли соответствовать контексту молитвы.
Уныние – слово это, как было отмечено выше, традиционно передавало греч. ἀθυμία ‛упа-док духа, малодушие (бездушие?)’ и ἀκηδία ‛беззаботность, беспечность’, ср. при образовании обеих греческих лексем использована α-privativum. Древнерусское слово называло тяжкий грех, связанный с безверием: уныниѥ ‛печаль, уныние’, ‛вялость’, ‛небрежность, беспечность’, ‛расслабление, слабость’ [Срезневский, 1958. Т. 3. Ст. 1233–1234], уныти ‛опеча-литься’, ‛омрачиться’, ‛пренебречь’, ‛быть бессильным’ [Там же. Ст. 1234].
Любоначалие - ср. греч. ц йрхц ‘начало’ и ‘власть, господство’; ц фlXapx^a ‘властолюбие’. Два греческих корня со значениями 'начало / власть’ и 'любить’ дали русскому языку два слова: властолюбие и любоначалие , первое из которых мы оцениваем как книжное, но приемлемое для современного словаря, любоначалие , вполне прозрачное по своему морфемному составу, не вполне вписывается в словарь русского языка. «Инакость» этого слова очевидна. Оно не было употребительным и в ранних текстах. Лексема любоначалие 'властолюбие’ в историческом словаре русского языка документируется только памятниками XVII в. [Сл. рус. яз. XI—XVII вв., 1981. С. 335], но любоначальникъ 'властолюбец’, любоначальство ‛властолюбие’ в этом же словаре отмечены примерами начала XV в. [Там же], в словаре И. И. Срезневского [1958. Т. 1. Ст. 273] находим только властолюбьць 'ф^ар/og’ с примером из Ефремовской Кормчей книги. Словарь XIX в. не дает много информации: любоначалие 'желание властвовать над другими; властолюбие’ [Сл. цсл. и рус. яз., 2001. Т. 2. С. 275] -с единственной ссылкой на молитву св. Ефрема Сирина, властолюбие 'страсть к властвованию, любоначалие’ [Там же. Т. 1. С. 133] - без цитат.
Празднословие - перевод греч. ц apYoXoY^a, но этого слова в древнегреческо-русском словаре И. Х. Дворецкого [1958] нет, представлено только прилагательное apYog 'бездеятельный, праздный, ленивый’, 'вялый, медленный, затяжной’ и др.
Словарь старославянского языка [2006. Т. 3. С. 249-250] омечает праздьнь 'пустой, незанятый, праздный’ также в составе устойчивых словосочетаний. Само слово празднословию , которое И. И. Срезневский удачно определяет как ‛суесловие’ [1958. Т 2. Ст. 1367], находим в «Житии прп. Феодосия Печерского» по раннему списку - Успенскому сборнику XIIXIII вв. (в словаре И. И. Срезневского это единственная цитата). Пример этот весьма показательный, поскольку речь идет о Великом посте: молю вы ѹбо братиѥ подвигнѣмъ ся по-стъмь и м ( о ) л ( и ) твою и попьцемъ ся о сп ( а ) сени д ( у ) шь нашиихъ. и възвратимъ са отъ зълобъ нашихъ, и отъ путии лукавыхъ яже суть сии, любодеяния, татьбы и клеветы, праздьнословия, котеры, пияньство, обиеданию, братоненавидению [Усп. сб., 1971. С. 92].
Целомудрие - сложное слово, возможно, калька с греч. oшфpooбvn, oшфpovюц6g. Макс Фасмер пишет, что это слово заимствовано (?!) из церковнославянского языка (как будто русский и церковнославянский не представляли единой культурно-языковой стихии, что было очевидно для М. В. Ломоносова и для А. С. Пушкина), но верно отмечает возможность происхождения его как кальки с греческого [Фасмер, 1973. С. 297]: с глубокой древности прилагательное оофбд фиксируется в памятниках, во всяком случае ooф^a (ионийск. ooф^n) отмечена уже гомеровской «Илиадой» [Chantraine, 1984. Р. 1031]. В старославянских памятниках засвидетельствована лексема целомудрию 'трезвость, рассудительность, благоразумие (oшфpovюц6g, оофрообуц, то oшфpov8iv)’, 'воздержанность, целомудренность (оюфроойуп)’ [Сл. стсл. яз., 2006. Т. 4. С. 834-83 5]; см. также: [Miklosich, 1862-1865. С. 1107].
У слов целомудрие и здравомыслие , безусловно, один источник. В истории славянских языков целъ и здравъ / здоровъ имели одно и то же значение. Не случайно, когда глагол целовати ( са ) 'приветствовать пожеланием здоровья’ изменил свою семантику (ср. совр. целовать , целоваться ), его место закономерно занял глагол здравствовать и вост.-слав. здороваться . Первое прилагательное находим, например, в Мстиславовом Евангелии рубежа XI– XII вв.: целъ 'здоров’ Ин V 6 11г: хощеши ли целъ быти ; Ин V 9 12а: и абию целъ бысть чл ( о ) вкъ и др.) [Апракос..., 1983. С. 43].
Правда, в древнерусских источниках встречаем только первое слово: целомудрию 'телесная чистота, целомудрие’ (в текстах с XI в.), 'вразумление’ [Срезневский, 1958. Т. 3. Ст. 14531454], слова здравомыслию нет в этом словаре, как нет и в Словаре русского языка XIXVII вв.
Данное слово (целомудрию) в привычном для нас значении 'телесная чистота, целомудрие’ отмечено рано, например, в Успенском сборнике XII–XII вв. в «Житии Епифана Кипрского» читаем: бАше етеръ чьрьньць среде еп(с)пъ, мужь говеинъ унъ сы телъмь, съвъ- рьшенъ же ц^лом^риюмь [Усп. сб., 1971. С. 263]. Видимо, устойчивый союз данного слова (плана выражения) и данной семантики (плана содержания), сформировавший и совр. рус. целомудрие, побудил переводчиков соответствующий греческий источник (имею в виду, лексему) передать по-русски иначе - как здравомыслие. Но это произошло уже в Новое время. Ни в словаре И. И. Срезневского, ни в Словаре русского языка XI-XVII вв., как уже было отмечено, этого слова нет, но в словарях XIX в. оно появляется: здравомыслие ‘здравое понятие, основательные мысли’ [Сл. цсл. и рус. яз., 2001. Т. 2. С. 81] - без цитат); здравомыслие или здравоумие ‘прямое, толковое сужденье, правильное понятие, основательное заключение и самая способность к тому’[Даль, 1978. С. 676].
Смирение - это цсл. смирению ‘умеренность’, ‘обуздание’, ‘унижение’, ‘покорность, смирение’ и др. [Срезневский, 1958. Т. 3. Ст. 763], образованное от существительного м^ра , но рано испытавшее влияние со стороны слов с корнем миръ (уже в текстах XV в.), в частности слова смирению ‘примирение’, ‘умиротворение, мир’ и др. [Там же, Ст. 747-748], в результате чего благодаря народной этимологии в одном «лексикографическом блоке» (другое определение к данному явлению трудно подобрать) оказались слова с тремя исторически разными корнями: мир -, мiр - и м^р -. Думается, что народная этимология сыграла значительную роль в семантическом определении слов данного лексикографического блока: из отыменных образований на - ение функционирует только то, которое восходит к слову м^ра [СРЯ, 1961. С. 215], но вот за прилагательными смиренный и смирный при всей графической близости корней сохраняется этимологическое прошлое - отсылка к корням соответственно м^р -и мир -, равно и прилагательное мирской сохраняет этимологическую память о слове мiръ .
О молитве св. Ефрема Сирина
Поклоны разбивают молитву на три части. Эта молитва читается во время Великого поста, после ее произнесения кающийся обращается с просьбой: Господи, очисти мя грешного ! Эти слова, отсылающие нас к молитве мытаря (ка! о TeXovng цакрбОеу ватюд онк цОвХву οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανόν ἐπᾶραι, ἀλλ' ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ЛааОпт! uoi ту ацартгоХф (Лк. 18-13)), можно оценить как продолжение молитвы, ее четвертую часть.
О чем говорится в каждой из этих частей? Эти части как ступеньки. Градация как стилистическое средство очень древнее и очень наглядное. Тем более в христианской литературе, где лествица ( лестница ) является одним из ярких символов, образов, часто связываемых именно со временем Великого поста.
Само перечисление того, о чем просит кающийся, свидетельствует о пути вверх. Сначала нужно избавиться от того дурного, что присуще нам. Это первая ступенька. Затем, и это вторая ступенька, приобрести добрые качества, которых у нас нет, но которые нам могут быть дарованы. Третья ступенька - достижение, опять же с Божьей помощью, смирения, матери всех добродетелей; неслучайно для достижения этого человеку нужно внутреннее (духовное) зрение. И наконец, четвертая ступенька - тоже смирение = полное раскаяние, озаренное надеждой, самой прочной и самой «надёжной», ибо за ней стоит Евангелие, стоят слова Христа.
Почему и 4-ю часть молитвы мы соотносим со смирением?
Четвертая часть напоминает молитву мытаря, самого презираемого у иудеев человека, самого грешного человека, согласно общественному мнению и (что особенно важно для великопостного текста) согласно его собственной оценке. Таким образом, перед нами, с одной стороны, усиливается контраст Господа и грешного человека. Но здесь и связь Господа и грешного человека: он не просто грешный, а такой, который понимает свои грехи и раскаивается. Это прямо вытекает из того, что за последней частью стоит евангельский образ кающегося мытаря.
Заключение молитвы очень оптимистично. Это вообще одна из самых оптимистичных молитв в православной традиции (ср. у Пушкина: И падшего крепит неведомою силой ), т. е.
молитв, за которыми стоит надежда человека на прощение и надежда на то, что он сможет исправиться. Ведь за этой молитвой стоит евангельский текст и слова Иисуса Христа о мытаре и его молитве.
О стихотворении А. С. Пушкина
Насколько Поэт следует построению молитвы, насколько лексика и образы, стоящие за этими словами, схожи с образами молитвы св. Ефрема Сирина? Ощущал ли Пушкин оптимистичность молитвы?
Прежде всего, всё стихотворение делится на две примерно одинаковые части, два раздела. В первом содержится рассказ автора о молитве св. Ефрема Сирина, ее характеристика и оценка (в том числе и оценка ее места среди других молитв христианина), что выражает отношение Поэта к молитве.
Во втором разделе стихотворения А.С. Пушкин дает свое изложение этой молитвы.
Сравним, о чем молит кающийся в молитве св. Ефрема Сирина и в стихотворении А. С. Пушкина.
В молитве кающийся просит не дать ему: праздности уныния любоначалия празднословия
Просит даровать ему: целомудрие смиреномудрие терпение любовь
Просит о смирении: видеть свои грехи не осуждать близкого
Просит: очистить от грехов
В стихотворении падший просит не дать его душе: унылой праздности любоначалия празднословия
Просит дать ему видеть: прегрешения его, чтобы он: не мог осуждать ближнего
Просит оживить в его сердце:
смирение терпение любовь целомудрие
Как видим, у Пушкина можно выделить 3 части в том отрывке (разделе) стихотворения, который содержит изложение молитвы св. Ефрема Сирина.
Куда делась у Пушкина заключительная часть молитвы св. Ефрема Сирина? Мы отмечали ее особую роль в самой молитве. - У Пушкина нет отсылки к молитве мытаря, но общая оценка, общий настрой молитвы передан. Это слова И падшего крепит неведомою силой, которые соединяют две главные части стихотворения. Эти же слова являются ответом на вопрос, ощущал ли Пушкин оптимистичность молитвы? Ответ: безусловно, да.
Насколько соотносительны те части, которые мы выделяем и в молитве св. Ефрема и в данном разделе стихотворения Пушкина?
Первая часть, видимо, наиболее соотносительна. Отличие: у Поэта объединенный образ праздности унылой . Это можно объяснить требованиями рифмы (но объяснение может быть и другим, содержательным).
Вторая часть второго раздела стихотворения соотносима с 3-й частью молитвы. Семантически соответствующие части близки: и в молитве, и в стихотворении речь идет о просьбе кающегося видеть свои грехи и не осуждать брата своего. Отличие в стихотворении касается модальности высказывания. В молитве эти две просьбы однородны, у Пушкина же их связь неоднозначна. Следующий за первой из этих просьб союз-частица да может указывать на целевую модальность: «дай мне, Боже, зреть мои прегрешения, чтобы не осуждать брата». Но, возможно, данной модальности и нет, поскольку да начинает самостоятельное предложение. В этом случае функционально да ближе всего к языковым средствам, выражающим побуждение (ср. совр. да будет так), и эта просьба стоит в одном ряду с предыдущей, является ей однородной, как и у св. Ефрема.
В 3-й части рассматриваемого раздела стихотворения говорится практически о тех же добродетелях, что и во 2-й части молитвы. Отличия здесь касаются следования этих добродетелей, что может быть объяснено требованиями размера стихотворения. Более существенным оказывается лексическое различие смиреномудрие - смирение. Почему Пушкин употребил это последнее слово и поставил его на первое место, понятно. Именно оно было общеупотребительным, вошедшим в русский язык из церковнославянского, и оно делало плавным переход от предыдущей части раздела к 3-й, оно связывало воедино эти части. Смиреномудрие не всегда могло быть понятно читателю XIX в., а съмирению ( съм^рению) искони входило в лексикон православного человека.
Четвертой части молитвы св. Ефрема у Пушкина соответствует, как было отмечено, девятый стих: И падшего крепит неведомою силой. То, что у св. Ефрема является заключительным аккордом, у поэта становится общим тоном второго раздела. При всем том, что здесь свои образы: образ кающегося не только сохраняется, но и усиливается ( падший в отличие от грешного ), и тема надежды выражена проще: она названа. В молитве св. Ефрема осознание этой темы оказывается возможным через соотнесенность с соответствующим евангельским чтением, что естественно для монаха, подвижника, пустынника, христианина, живущего по Евангелию. Поэт - человек мирской; то, что естественно, внутренне для подвижника, требует называния «в лоб» для человека, выпадающего (и в конечном счете падшего ) из христианской среды.
Лексическая близость стихотворения и молитвы
Нас интересуют как лексическая близость молитвы св. Ефрема и стихотворения А. С. Пушкина, так и лексические различия.
Глагольная лексика не играет здесь ведущей роли (как, например, в стихотворении А. С. Пушкина «Кавказ»), но лексические различия весьма примечательны. Четкое смысловое различение даждь и даруй в церковнославянском тексте молитвы заменяется у поэта общим дай . Приподнятость соответствующей части достигается сохранением славянизма зреть , сочетающегося с русизмом дай . Прием этот характерен для древнерусских летописей. По наблюдениям, проведенным на базе основных древнерусских списков «Повести временных лет», древнерусский летописец избегал повторения славянизмов в ближайшем контексте, он сочетал славянизм с русизмом [Устюгова, 1987]. Этот стилистический прием позволял, не выходя из общей высокой, приподнятой тональности изложения, просто выразить свои мысли. В конечном счете это удачное совмещение общего, непреходящего, высокого с частным, обыденным, простым. Попытка вписать это простое в высокое или, наоборот (что в принципе одно и то же), внести это высокое в свою простую среду и тем самым подняться.
Наиболее существенным лексическим глагольным различием является даруй - оживи ( в сердце ), ибо глагол оживить предполагает наличие у кающегося тех добродетелей, о которых он молит и которые забыты им или практически утрачены. Не будь в стихотворении девятого стиха, можно было говорить о самомнении кающегося, о неосознании им своей полной греховности. Но образ падшего, стоящий за всем вторым разделом стихотворения, настолько явственно проступает, что делает для текста малосущественным то, что в языке различается значительно.
Именные разночтения начинаются с самого начала молитвенного раздела стихотворения. Владыко живота моего - обращение у св. Ефрема и Владыко дней моих - у Пушкина. Но это различие не затрагивает смысла, поскольку дни - это метонимическое обозначение жизни.
Примечательно, что Поэт довольно бережно сохранил именную лексику великопостной молитвы. Мы уже отмечали его замену праздности , уныния на праздность унылую , вызванную, возможно, размером, ритмом. Другая замена - это смиреномудрие на смирение . Последнее слово, будучи, безусловно, нейтральным, сохраняло свою соотнесенность с христианским метатекстом (Евангелием и его ближайшим продолжением в виде Предания, норм поведения, системы самооценки т. д.), тем самым слово смирение, как и другие слова, называвшие грехи и добродетели, «скрепляли» высокое и простое, непреходящее и обыденное, церковнославянский язык и русский.
Обращает на себя внимание тот факт, что данная часть стихотворения Пушкина не богата художественно-изобразительными средствами. Кроме отмеченной метонимии и описательно-фразеологического выражения не примет осужденья, можно назвать только сравнение: ...J Любоначалия, змеи сокрытой сей. Змея - традиционное для христианства сравнение и метафора. Грех любоначалия, тайно, скрыто овладевающий человеком, возможно, не случайно выделен сравнением у Поэта. Любое выделение, любой акцент делает слово и соответствующий образ более запоминающимся, а здесь, видимо, и центральным в числе слов, называющих грехи. Тем самым явная отрицательная характеристика любоначалия предполагает «пиковое, вершинное» выделение его противоположности, которым в данном контексте может быть только смирение . Это первое (опосредованное, не названное автором, но, может быть, наиболее существенное для него) упоминание смирения.
Мы видим, что есть и лексические различия в анализируемых текстах, и отличия в следовании соответствующих частей. Мы вправе задать вопрос: что перед нами (имея в виду стихотворение А. С. Пушкина)? Стихотворное переложение молитвы св. Ефрема Сирина или особый текст? Те лексические различия, которые были отмечены, склоняют нас скорее к первому ответу: это продолжение, литературное переложение известной молитвы.
Следование частей данного раздела стихотворения иное, чем в молитве св. Ефрема Сирина, но и оно строится как ступеньки. За этими ступеньками - свой образ. Образ постепенного освобождения от грехов и приобретения добродетелей. Смирение при этом оценивается как промежуточная ступенька, необходимая для достижения христианских совершенств и именно любви. Среди перечисления этих совершенств не любовь стоит на последнем (итоговом) месте, но это слово завершает предпоследний стих, именно с этим словом рифмуется последнее слово стихотворения, и благодаря этому слово оказывается самым запоминающимся (ключевым?) в 3-й части данного раздела стихотворения, а может быть, и во всем стихотворении.
Если последнее предположение верно, то мы имеем очень важное различие данных двух текстов. Смирение как высшая добродетель христианина и Евангельская надежда у св. Ефрема Сирина. Евангельская любовь как цель и самое заветное, необходимое для человека, падшего, но живущего надеждой, у А. С. Пушкина. У каждого из этих подвижников (св. Ефрема Сирина и А. С. Пушкина) свое видение итога земной жизни.
Заключение
При всех своих признаках великопостной молитвы просьбы Поэта имеют другое звучание. Более общее, более обобщенное. Текст выходит из разряда календарно приуроченных (в рамках церковного года) молитв, он раздвигает границы своего использования. Это его дальнейшее развитие, его дальнейшая жизнь. И это вполне закономерно. Выйдя из богослужебной, молитвенной, более камерной и более строгой сферы в сферу литературы (соответственно в сферу общественного мировосприятия и мирооценки, адресованной современникам, не всегда осознающим значимость присутствия Бога в своем бытии), текст уже тем самым изменился, он распространился вширь. Смещение внутренних акцентов изменило его содержание. Это уже особое произведение. Иначе и быть не могло. Не имело смысла в стихах пересказывать молитву св. Ефрема Сирина. Проще, а следовательно, лучше не скажешь! А создать свой текст – другое дело.
Мы не знаем всех обстоятельств, которые побудили Пушкина написать это стихотворение. Но одно бесспорно, это стихотворение – итог христианского опыта автора и его мыслей о будущем (наверное, и о прошлом – своем прошлом). И это будущее осмыслялось Поэтом в рамках христианской заповеди любви к ближнему как единственному закону поведения и ведения (вéдения и ведéния) жизни человека (для А. С. Пушкина: православного христианина).
Сл. рус. яз. XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 1981. Вып. 8. 352 с. СРЯ – Словарь русского языка. М., 1961. Т. 4. 1088 с.
Сл. стсл. яз. – Словарь старославянского языка. Репринт. изд. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2006.
Т. 1–4.
Сл. цсл. и рус. яз. – Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук. Репринт. изд. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2001. Т. 1–4.
Сл. яз. Пушкина – Словарь языка Пушкина. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956.
Т. 1: А–Ж. 808 с.; 1957. Т. 2: З–Н. 896 с.; 1959. Т. 3: О–Р. 1072 с.; 1961. Т. 4: С–Я. 1048 с.
Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1958. Т. 1–3.
Старк В. П. Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). Л.: Наука, 1982. Т. 10. С. 193–203.
Тимофеев К. А. Лингвостилистический анализ стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» // Сибирская пушкинистика сегодня: Сб. науч. ст. Новосибирск, 2000. С. 47–62.
Усп. сб. – Успенский сборник XII–XIII вв. / Под ред. С. И. Коткова. М.: Наука, 1971. 768 с.
Устюгова Л. М. Книжнославянизмы и соотносительные русизмы в основных списках «Повести временных лет» // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М.: Наука, 1987. С. 90–105.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1973. Т. 4. 856 с.
Фомичев С. А. Последний лирический цикл Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л.: Наука, 1985. С. 54–57.
Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris, Éditions Klinksieck, 1984, т. 1–2, 1368 p. (единая пагинация)
Miklosich Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatumauctum. Vindobonae, 1862– 1865, 1171 p.
Received
01.07.2020
Список литературы Стихотворение А. С. Пушкина "Отцы пустынники и жены непорочны..." (лингвостилистический анализ поэтического произведения и его источника)
- Апракос Мстислава Великого / Под ред. Л. П. Жуковской. М.: Наука, 1983. 528 с.
- Давыдов С. Пушкин и христианство // Записки Русской Академической группы в США. Нью-Йорк, 1992–1993. С. 89–93.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1978. Т. 1. 700 с.
- Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. Т. 1–2. 1904 с. (единая пагинация).
- Долгушин Д., свящ., Цыплаков Д., диак. Пасхальная тема в последнем лирическом цикле Пушкина // Сибирская пушкинистика сегодня: Сб. науч. ст. Новосибирск, 2000. С. 98–118.
- Лепахин В. «Отцы пустынники и жены непорочны…» (Опыт подстрочного комментария) // А. С. Пушкин: путь к Православию. М., 1996. С. 243–260.
- Науменко Г. А. Молитва («Отцы пустынники и жены непорочны…») // Studia Humanitatis. International Scientific Research Journal. 2014. № 3. URL: www.st-hum.ru
- Панин Л. Г. А. С. Пушкин и церковнославянский язык // Сибирская пушкинистика сегодня: Сб. науч. ст. Новосибирск, 2000. С. 313–330.
- Панин Л. Г. Пушкин и Данте – создатели литературных языков (к постановке проблемы) // Диалог языков и культур. Кемерово, 2018. С. 66–69.
- Полная симфония на канонические книги Священного Писания. СПб., 2006. 2494 с.
- Седова Г. М. Стихотворение А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны…» и «Письма о богослужении Восточной Церкви» А. Н. Муравьева // Вестник СПбГУ. Серия 9. 2010. Вып. 1. С. 49–55.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Л.: Наука, 1986. Вып. 21. 361 с.; 1991. Вып. 26. 351 с.; СПб.: Наука, 2014. Вып. 47. 354 с.
- Сл. рус. яз. XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 1981. Вып. 8. 352 с.
- СРЯ – Словарь русского языка. М., 1961. Т. 4. 1088 с.
- Сл. стсл. яз. – Словарь старославянского языка. Репринт. изд. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2006. Т. 1–4.
- Сл. цсл. и рус. яз. – Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук. Репринт. изд. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2001. Т. 1–4.
- Сл. яз. Пушкина – Словарь языка Пушкина. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956. Т. 1: А–Ж. 808 с.; 1957. Т. 2: З–Н. 896 с.; 1959. Т. 3: О–Р. 1072 с.; 1961. Т. 4: С–Я. 1048 с.
- Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1958. Т. 1–3.
- Старк В. П. Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны…» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). Л.: Наука, 1982. Т. 10. С. 193–203.
- Тимофеев К. А. Лингвостилистический анализ стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» // Сибирская пушкинистика сегодня: Сб. науч. ст. Новосибирск, 2000. С. 47–62.
- Усп. сб. – Успенский сборник XII–XIII вв. / Под ред. С. И. Коткова. М.: Наука, 1971. 768 с.
- Устюгова Л. М. Книжнославянизмы и соотносительные русизмы в основных списках «Повести временных лет» // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М.: Наука, 1987. С. 90–105.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1973. Т. 4. 856 с.
- Фомичев С. А. Последний лирический цикл Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л.: Наука, 1985. С. 54–57.
- Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris, Éditions Klinksieck, 1984, т. 1–2, 1368 p. (единая пагинация)
- Miklosich Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatumauctum. Vindobonae, 1862–1865, 1171 p.