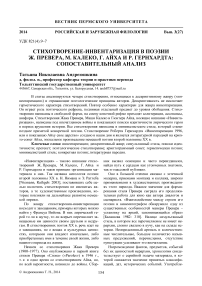Стихотворение-инвентаризация в поэзии Ж. Превера, М. Калеко, Г. Айха и Р. Гернхардта: сопоставительный анализ
Автор: Андреюшкина Татьяна Николаевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются четыре стихотворения, относящиеся к дескриптивному жанру («инвентаризация») и отражающие поэтологические принципы авторов. Дескриптивность не исключает герметического характера стихотворений. Повтор особенно характерен для жанра инвентаризации. Он играет роль поэтического рефрена, поднимая отдельный предмет до уровня обобщения. Стихотворения написаны в свободной форме, на смену конечной рифме приходят аллитерации, ассонансы, анафоры. Cтихотворения Жака Превера, Маши Калеко и Гюнтера Айха, носящие название «Инвентаризация», написаны под впечатлением войны и показывают поиски идентичности лирического героя в период крушения истории. Все стихотворения написаны в минималистском стиле, который станет позднее приметой конкретной поэзии. Стихотворение Роберта Гернхардта «Инвентаризация 1996, или я показываю Айху свое царство» создано в наши дни и является литературной пародией на крипто-сонет Айха, эпохальное произведение немецкой поэзии второй половины ХХ в.
Инвентаризация, дескриптивный жанр, симультанный стиль, поиски идентичности, претекст, поэтологическое стихотворение, криптограммный сонет, герметическая поэзия, минималистский стиль, конкретная поэзия, литературная пародия
Короткий адрес: https://sciup.org/14729320
IDR: 14729320 | УДК: 821(4).9-7
Текст научной статьи Стихотворение-инвентаризация в поэзии Ж. Превера, М. Калеко, Г. Айха и Р. Гернхардта: сопоставительный анализ
«Инвентаризация» – таково название стихотворений Ж. Превера, М. Калеко, Г. Айха и Р. Гернхардта и таков принцип организации материала в них. Так названа антология поэзии второй половины ХХ в. Н. Нимана и Э. Ратгеба [Niemann, Rathgeb: 2003], поставивших себе целью включить стихотворения не именитых авторов, а те художественные произведения, которые повлияли на дальнейшее развитие немецкой лирики.
По жанру стихотворения-инвентаризации восходят к завещаниям, примеры которых можно найти у Франсуа Вийона. В них лирический герой то ли в шутку, то ли всерьез перечисляет завещаемые им ценности своим друзьям и недругам. В стихотворениях поэтов ХХ в. речь идет не о завещаниях, но о вещах и культурных ценностях, которыми они владеют изначально, либо приобретенных ими в течение своей жизни, либо важного периода их жизни.
Начнем со стихотворения Жака Превера (1900–1977). Оно опубликовано в первой книге стихов Превера «Слова» («Paroles») в 1946 г., т. е. в одно время со стихотворением Айха, но, по всей вероятности, возникло до войны. Сбор- ник вызвал сенсацию и часто переиздавался, найдя путь к сердцам как утонченных знатоков, так и «массовой публики».
Оно в большей степени связано с эстетикой модерна, приемами монтажа и коллажа, широко применяемыми в художественных произведениях этого периода. Важное значение для формирования стиля Превера сыграла его продолжительная работа для кино как автора диалогов и сценариста. «Взаимодействие между строем его поэзии и кинематографом обнаружило одну из существенных особенностей манеры Превера – установку на яркий, запоминающийся образ» [Балашова 1982: 310]. Налицо симультанный стиль, в котором все перечисляемое не имеет иерархии, словно свалено в кучу, как на складе истории. Неопределенный артикль и количественные числительные, большое количество назывных предложений, перечисления, отсутствие пунктуации усиливают это впечатление.
Нагромождение фактов, предметов, событий без их ценностной иерархии, хронологии свидетельствует о серийной подаче материала, в которой снижается значение принятых классификаций, дат, исторических событий. Употребле-
ние единственного числа не говорит о ценности явления, как и наличие вещей в нескольких экземплярах, напротив, оно умаляет их значение. Сюрреалистические картинки, вроде «17 слонов судья-следователь на каникулах в одном кресле-качалке» (здесь и далее перевод мой. – Т.А. ) [Museum 2002: 494] сменяются перечислением бытовых предметов, вроде «сифон с сельтерской водой / шорле-морле» [ibid.]. Последнее могло бы стать символом смешения фактов, предметов, явлений в голове студента в день экзамена или туриста, объехавшего несколько стран, но становится показательным для европейца середины ХХ в.
Некоторые строки варьируются: «маленький мальчик, с плачем входящий в школу / маленький мальчик, со смехом покидающий школу» [ibid.]. Этот мальчик словно является героем стихотворения, в голову которого прилежные учителя пытаются вложить как можно больше разрозненных сведений из различных областей наук: истории, биологии, географии, религии, литературы и т.д. – и голова которого переполнена впечатлениями реальной жизни: муравей, перчатка, корова, дядя с Кипра, сад, оса и т.д. Перечисления или отдельные ситуации у Превера не лишены юмора – в этом проявляется его причастность к французскому национальному духу, в этом он является наследником Вийона. Часто смешное, как и у Вийона, у него соседствует с трагическим.
У Превера, хранящего верность сюжетному стихотворению (об этом свидетельствуют названия сборников «Истории» (1946), «Истории и другие истории» (1963), даже в «Инвентаризации» всплывают фрагменты отдельных разрушенных сюжетов). Превер в «Инвентаризации» словно конкурирует не только с предметностью живописи, но и со СМИ, объявлением, афишей, рекламой, плакатом, включая максимум наглядной информации. В послевоенной поэзии, помимо короткого рассказа, важны звуковая игра (ассоциации и каламбуры, неологизмы и контаминации слов и выражений) и принцип кадрирования сюжета. Содержание события не столько рассказывается, сколько показывается – чередой ярких снимков. Это качество усилено в современной поэзии влиянием кино, в ней значимо визуальное начало, образы тяготеют к зрительным. В манере Превера соединять живописность, игру словами, понятиями и различные виды повтора.
Превер не комментировал своих стихотворений и не писал поэтических манифестов, но размышлениями об искусстве и о художнике проникнуты многие его стихотворения. В поэтике
Превера совместились разноплановые тенденции своего времени: предпочтение свободному стиху, перенос функции рифм на ассонансы, внутренние рифмы, игру слов, анафоры и рефренные повторы, взаимодействие языков других видов искусств в поэзии: звукового, визуального, архитектонического.
Он расширил поэтический язык пластом разговорной речи, языка повседневности. Отличаясь разными техническими, формальными секретами, например, автоматического письма сюрреализма, даже «игровые» элементы стиха обладают смысловой насыщенностью и направляют поэзию к каждодневной жизни, к политической реальности, к герою с его повседневными заботами. Поэзия Превера дает голос разным героям, его современникам. Поэт не относится ни к философскому, ни к структуралистскому крылу в литературе, он ориентируется на читательскую аудиторию, такую же разнообразную, как его герои.
В структуре стихотворения прослеживается некоторое развитие с кульминацией. Стихотворение начинается двумя строфами по шесть строк, затем следует строфа с тридцатью строками, кульминация происходит в четвертой строфе с тридцатью четырьмя строками и завершается стихотворение строфой с четырнадцатью строками. Это большого объема стихотворение, состоящее из неравных пяти строф с варьирующимся рефреном, что и навело нас на мысль о его родстве с завещанием-балладой. Речь в нем идет о вещах и предметах, которыми владеет человек середины ХХ в.
В стихотворении упоминаются художественные ценности (Ника Самофракийская), европейские ноу-хау (голландский соус, французские духи, английский сад), Наполеон и Аустерлиц, мальчик-с-пальчик, крестный ход, 12 апостолов. Помимо этого даются заведомо ложные сведения: пять направлений света, шесть частей света, железные легкие. Встречаются принятые измерения: пол-пинты; понятия сакрального содержания, подвергающиеся осмеянию. История Франции с несколькими королями в связи с предметами и цифрами показывает ничтожность царствовавших особ: «каблук Луи XV», «один поклон Анри II», «два поклона Анри III», «три поклона Анри IV» [Museum 2002: 494]. Возрастание иронично указывает на «возрастание» лишь галантных придворных традиций.
Таким образом, с одной стороны, это модернистское дескриптивное стихотворение, перечисляющее большое количество накопленных в истории человечества предметов, фактов, явлений, с другой – поэтологическое стихотворение, демонстрирующее поэтические принципы автора.
Четырехчастное стихотворение Маши Калеко (1907–1975) «Инвентаризация» воспроизводит четыре этапа жизни эмигранта. Первый – ситуация на родине: бомбежки, голод, потеря крова, потеря смысла существования. Второй – ситуация изгнания: без опоры, без помощи, бегство без оглядки, без обуви, без устали, без цели. Третий – ситуация на чужбине: настоящий дом так и не обретен, новые друзья так и не найдены, чужой язык так и не стал родным, чужой лес так и не обрел аромата родины. Четвертый – возвращение на родину: дома больше нет, ребенка тоже, слова остались непроизнесенными, цели недостижимы. Стихотворение написано в минималистском стиле, напоминающем стихотворения авторов конкретной поэзии, популярной после войны, для которой были характерны краткость, лаконизм высказывания, экономия выразительных средств, такие приемы, как пермутация, констелляция, контаминация и др.
Стихотворение М. Калеко экономно в средствах: в нем используются с повтором несколько существительных, которые образуют разные комбинации при наличии одного предлога. Все существительные употребляются в единственном числе, что придает даже конкретным существительным обобщающий характер. Своим лаконизмом и сухой констатацией фактов, обращением к объективной действительности и естественной «вещности», иронией и скепсисом стихотворение вписывается в стилистику поэзии «новой деловитости», популярной в немецкой поэзии в период между двумя войнами. В. Д. Седельник относит творчество М. Калеко к «Gebrauchslyrik» («лирике для внутреннего употребления») [Седельник 2012: 202], предназначенной для «маленьких» людей и говорящей об их повседневных страхах и заботах, о жизни в большом городе. «Ее манеру отличали доверительная интонация, разговорный, чуть приземленный язык» [там же]; вместе с тем «ее искренние, глубоко прочувствованные стихи затрагивали глубинные, экзистенциальные проблемы человеческого языка» [там же: 205].
Первый поэтический сборник М. Калеко вышел в 1933 г., второй – в 1934 г., принеся ей заслуженную славу, а в 1935 г. ее книги были запрещены и она отправилась в эмиграцию вместе в мужем и сыном. Двадцать лет она жила в Нью-Йорке, где практически не публиковалась, а в 1960 г. вместе с семьей перебралась в Иерусалим, где ее ждала полная изоляция. В конце своей жизни она утратила веру в слово, что отражается и в анализируемом стихотворении. Тем не менее это стихотворение также является поэтологическим, поскольку говорит о слове, главном поэтическом средстве высказывания, и об изменяющемся отношении к нему автора на протяжении своего творчества.
Haus ohne Dach
Kind ohne Bett
Tisch ohne Brot
Stern ohne Licht.
Fluß ohne Steg
Berg ohne Seil
Fuß ohne Schuh
Flucht ohne Ziel.
Dach ohne Haus
Stadt ohne Freund
Mund ohne Wort
Wald ohne Duft.
Brot ohne Tisch
Bett ohne Kind
Wort ohne Mund
Ziel ohne Flucht. [Lyrik 1985: 159]
1 Дом без крыши / Ребенок без кровати / Стол без хлеба / Звезда без света. // 2 Река без причала / Гора без веревки / Ноги без обуви / Бегство без цели // 3 Крыша без дома / Город без друга / Рот без слов / Лес без благоухания. // 4 Хлеб без стола / Кровать без ребенка / Слова без рта / Цель без бегства. (Перевод мой. – Т.А. ).
Стихотворение Г. Айха (1907–1972) «Инвентаризация» было написано в последний год войны, хотя опубликовано позже, и сразу стало хрестоматийным по нескольким причинам. Айх, принимавший участие в войне и оказавшийся после войны в американском лагере, c одной стороны, выступает в роли типичного лирического героя, который совершает расчет с прежней солдатской жизнью и проводит инвентаризацию того, с чем он выходит в новую, мирную жизнь, поэтому Й. Фогт называет «Инвентаризацию» «лагерным стихотворением» [Vogt 2014: 91]. С другой стороны, Айх, участник «Группы 47», стал представителем новой литературы, а его стихотворение, которое Г. Кайзер относит к «поэтологическим стихотворениям» [Kaiser 2003: 285], явилось стилеобразующим для нового поколения поэтов.
Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel, hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen.
Konservenbüchse:
Mein Teller, mein Becher, ich hab in das Weißblech den Namen geritzt.
Geritzt hier mit diesem kostbaren Nagel, den vor begehrlichen Augen ich berge.
Im Brotbeutel sind ein Paar wollene Socken und einiges, was ich niemand verrate, so dient es als Kissen nachts meinem Kopf.
Die Pappe hier liegt zwischen mir und der Erde.
Die Bleistiftsmine lieb ich am meisten:
Tags schreibt sie mir Verse, die nachts ich erdacht.
Dies ist mein Notizbuch, dies meine Zeltbahn, dies ist mein Handtuch, die ist mein Zwirn.
[ Eich 1991: 35–36]
Вот моя шапка, / А это – шинель. / Прибор для бритья / В холщевом мешочке. // Консервная банка – / Стакан и тарелка. / Я имя мое / Нацарапал на жести. // Нацарапал вот этой / Драгоценной иголкой, / Которую прячу / От завистливых глаз. // В сумке для хлеба / Шерстяные носки / И еще кое-что, / А что – не скажу. // По ночам эта сумка / Мне служит подушкой, / А клеенку стелю я / Между землею и мной. // Больше всего / Я люблю карандаш: / Днем он пишет стихи, / Что я ночью придумал. // Вот мой блокнот. / Вот мои нитки. / Вот мой плащ-палатка. / Вот мое полотенце. (Перевод И. Фрадкина [История литературы ФРГ 1980: 46]).
Стихотворение Айха уловило дух послевоенной литературы, которая в период разрухи и поражения должна была помочь возвращающимся с войны солдатам обрести опору в жизни, чтобы начать жить сначала. Не случайно Й. Фогт сравнивает «Инвентаризацию» Айха с «Фугой смерти» Целана и определяет его не только как стихотворение «после Освенцима» (Т. Адорно), но и как стихотворение «после Сталинграда» [Vogt 2014: 87–88]. Тем, кто потерял в войну почти все и возвращается в материальную и духовную пустоту, хотелось схватиться, как тонущему за соломинку, за те оставшиеся простые предметы, дорогие сердцу человека. Поэтому это сухое пе- речисление основных вещей ежедневного обихода называло то, что могло обеспечить изначальное скудное существование. «В новой дефиниции повседневных вещей, которая предполагает автономию субъекта, проявляется новая функция – обретение индивидуальности, которая была утрачена на войне» [Hoffmann 1998: 257–258]. Это проявляется в определениях, содержащих оценку: «драгоценная иголка», которой владеет лирический герой, царапая свое имя на банке, и «завистливые глаза» людей, процесс идентификации которым еще предстоит.
Особое место занимают слова, имеющие отношение к процессу письма. Лирическим героем выделяется «карандаш-мина», композитум, усиливающий словосочетание «драгоценная иголка». Иголка позволяет пометить личные вещи, которые перечисляются в начале стихотворения; карандаш, действенность которого подчеркнута компонентом «мина», позволяет не только выразить свои мысли и чувства, служащие для общей ориентации героя в окружающем мире, но и записать стихи, придуманные ночью (поэтому и слово «записная книжка» стоит в последней строфе на первом месте). Отдельные, перекликающиеся между собой слова первой и последней строф, образующие раму стихотворения, имеют расширительное значение: слово «нитки» может содержать значение как скрепы, так и нити Ариадны, которая помогла Тезею выбраться из лабиринта.
Творчество Айха, представителя герметической поэзии, широко использующего мифологические мотивы и библейскую метафорику, допускает метафорическое толкование анализируемого стихотворения [Андреюшкина 2008: 234–235]. Тот факт, что разбитое на краткие строки 28-строчное стихотворение на самом деле может быть 14-строчным сонетом, подтверждает факт герметичности его формы и содержания [Андреюшкина 2006: 130–132]. Г. Дрюг видит в стихотворении парадигму сапфической оды [Drügh 2007: 355] , Й. Ценке считает его эквивалентом нибелунговой строфы (цит. по: [Vogt 2014: 99], Й. Фогт определяет его жанр как «крипто-сонет» [ibid.: 101]. Айх, перу которого принадлежит не один сонет, своим текстом, претендующим на простоту и непритязательность, создал стихотворение, отличающееся совершенством и отточенностью художественной формы, что обеспечило ему продолжительную жизнь. Не случайно «Инвентаризация» Айха послужила претекстом для стихотворений многих авторов (Г. М. Энценсбергер, Д. Петерсдорф, Р. Гернхардт и др.).
«Инвентаризация 1996, или я показываю Ай-ху свое царство» Р. Гернхардта – литературная пародия на стихотворение Айха, которая совсем не иронизирует по поводу содержания или формы оригинала. В то время как лирика Превера, Айха и Калеко порождена войной, лирика Гернхардта связана с мирным настоящим. В стихотворении Гернхардта – другое время, другие вещи, а форма стихотворения передана почти без изменения. Скорее, Гернхардт слегка иронизирует по поводу новой ситуации, когда поэт связан с новыми технологиями и на место карандаша и записной книжки пришли компьютер, принтер, телефон с автоответчиком и другие удобства коммуникации.
Dies ist mein Schreibtisch, dies ist mein Drehstuhl, hier mein Computer, darunter der Drucker.
Telefonanlage:
Mein Hörer, mein Sprecher.
After the beep you can leave the message.
Sie können die Nachricht natürlich auch faxen.
Ich ruf sie so bald wie möglich zurück.
Im Hängeschrank sind die Korrespondenzen und einiges, was ich niemand verrate, sonst kostet dies Wissen noch mal meinen Kopf.
Der Kelim hier liegt zwischen mir und den Dielen.
Das Kopiergerät dort ist mir am liebsten:
Tags kopiert er die Texte, die ich nachts getippt.
Dies ist mein Notizbuch, dies sind meine Tagebücher, dies ist meine Bibliothek, dies ist mein Reich.
[Gernhardt 2005: 89]
Это мой письменный стол, / это вращающееся кресло, / здесь компьютер,/ под ним – принтер. // Телефон с автоответчиком: / Запись, ответ: / «После гудка / Вы можете оставить свое сообщение. / Вы можете, конечно, / послать сообщение и факсом. / Я перезвоню Вам сразу, / как только смогу. // В подвесном шкафчике – / корреспонденция / и нечто, о чем я / никому не скажу, // иначе это снова / может стоить мне головы. / Коврик лежит / между мной и полом. // Тот копировальный аппарат / я люблю больше всего: / днем я копирую на нем тексты, / которые ночью набираю на клавиатуре. // Это моя записная книжка, / это – дневники, / это моя библиотека, / это мое царство. (Перевод мой. – Т.А.).
В этом стихотворении все упоминаемые предметы связаны с деятельностью писателя. Они удобнее и комфортнее, чем в стихотворении Айха, но и здесь есть некие тайные вещи, о которых автор лишь кратко упоминает: приватная корреспонденция не для всех ушей и записная книжка, дневники и библиотека – необходимые компоненты для творчества писателя.
Подытожим некоторые наблюдения. Айх мог знать стихотворение Превера, потому что многие из стихотворений французского поэта печатались в журналах. То, что могло привлечь Айха в стихотворении Превера, – это отсутствие лирической исповедальности (не случайно последующие сборники Превера называются «Всякая всячина» (1966), «Вещи и прочее» (1972). В 70-е гг. в Германии тенденция к описанию повседневности в поэзии нашла свое выражение в «новой субъективности», которая уходит корнями в предвоенную поэзию «новой деловитости». «Заостряя эту черту, некоторые французские критики утверждали, что Превер ввел в поэзию «он» вместо «я», занял позицию наблюдателя – ироничного, проницательного, сопрягающего разноречивые факты не для того, чтобы выразить свои ощущения, а просто чтобы «отстраненно» показать: вот что происходит с вами» [Балашова 1982: 310–311]. Такая позиция просматривается и в стихотворении М. Калеко, где нет героя, есть только вещи и явления во взаимосвязи с этими вещами, что не мешает автору создать потрясающую по проникновенности картину жизни эмигранта.
Айх, в отличие от Превера и Калеко, с одной стороны, продолжает жанр криптограммного сонета, подключаясь к классической жанровой традиции, с другой стороны, он, как и Калеко, использует скупые средства, характерные как для поэзии «новой деловитости», так и для других экспериментальных направлений – дадаизма и конкретной поэзии.
Для поэзии Превера в целом и для «Инвентаризации» в частности (так же, как для Айха, Ка-леко и Гернхардта) характерно широкое использование анафоры, аллитерации, ассонанса вместо отсутствующих рифм. Строки начинаются одним словом, меняется лишь финал строки, и с каждой новой единицей нарастает сила гиперболы.
Повтор особенно характерен для жанра «инвентаризация». Он играет роль своеобразного поэтического рефрена, проигрывая исходный мотив как бы в ином регистре, усиливая его звучание, обнажая внутренний драматизм и поднимая отдельный предмет, случай или ситуацию до уровня обобщения.
Четыре проанализированных стихотворения, при определенном сходстве, которое им обеспечивает принадлежность к одному жанру, являются уникальными даже в творчестве каждого из поэтов. Они написаны в «пограничной ситуации», когда авторы искали новых способов выражения, нового, лаконичного языка, завуалированно опираясь на существующие поэтические формы. Таким образом, объединяющей чертой, помимо дескриптивности, явилось своеобразное выражение отношения каждого из авторов к слову, к поэтическому ремеслу, что относит все анализируемые стихотворения к жанру поэтологического стихотворения. Особое место среди проанализированных стихотворений занимает «Инвентаризация» Айха, по праву названная Й. Фогтом «эпохальным стихотворением» [Vogt: 87].
Professor in the Department of Theory and Practice of Translation
Togliatti State University
The article anylises four poems belonging to the descriptive genre («inventory») and reflecting their authors’ poetological principles. The inventory is close to the literary testament genre that involves describing values which an author leaves the next generation. The descriptiveness doesn’t eliminate hermetic features of the poems. Repetition is especially typical of the «inventory» as a genre. It plays a role of a poetical refrain which brings a represented object to generalization. The poems are written in a free verse form, the end rhyme is replaced by alliterations, assonances and anaphoras.
Список литературы Стихотворение-инвентаризация в поэзии Ж. Превера, М. Калеко, Г. Айха и Р. Гернхардта: сопоставительный анализ
- Андреюшкина Т. Н. Немецкоязычный сонет: эволюция жанра. Тольятти: ТГУ, 2010. 378 с
- Андреюшкина Т. Н. Этапы развития немецкого сонета. М.: МПГУ, 2006. 256 с
- Балашова Т. В. «Игровая техника» сатирической инвективы: Жак Превер//Балашова Т.В. Французская поэзия ХХ века. М.: Наука, 1982. С. 306-333
- История литературы ФРГ/отв. ред. И. М. Фрадкин. М.: Наука, 1980. 687 с
- Седельник В. Д. «Веселая меланхолия» поэзии Маши Калеко//«Поэзия и правда». Немецкоязычная женская поэзия: сб. эссе/под ред. Т. Н. Андреюшкиной. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. С. 200-212
- Drügh H. Ästhetik der Beschreibung. Poetische und kulturelle Energie deskriptiver Texte (1700-2000). Tübingen: Francke, 2007. S. 354-371
- Eich G. Gesammelte Werke: In 4 Bd./hg. v. A. Vieregg. Frankfurt a. M.: Fischer, 1991. Bd 1. S. 35-36
- Gernhardt R. Gesammelte Gedichte 1954-2004. Frankfurt a. M.: Fischer, 2005. 674 S
- Hoffmann D. Arbeitsbuch: Deutschsprachige Lyrik seit 1945. Tübingen: Francke, 1998. 414 S
- Kaiser G. Günter Eich: Inventur. Poetologie am Nullpunkt//Poetologische Lyrik von Klopstock bis Grünbein/hg. v. O. Hildebrand. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2003. S. 269-285
- Lyrik des Exils/hg. von W. Emmerich und S. Heil. Stuttgart: Reclam, 1985. 437 S
- Museum der modernen Poesie: Mehrsprachige Anthologie/eingerichtet von H. M. Enzensberger. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2002. 867 S
- Niemann N., Rathgeb E. Inventur: Deutsche Lesebuch 1945-2003. Bonn: Hanser, 2003. 409 S
- Vogt J. Ein Minimalprogramm der Poesie? Überlegungen, auch didaktischer Art, zu Günter Eichs Epochengedicht „Inventur“//Vogt J. Erinnerung, Schuld und Neubeginn. Weltkrieg und Holocaust. Oxford: Lang., 2014. S. 87-102