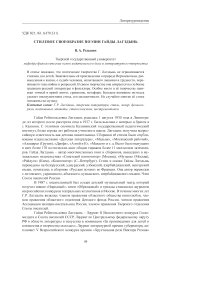Стилевое своеобразие поэзии Гайды Лагздынь
Автор: Редькин Валерий Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, что поэтическое творчество Г. Лагздынь не ограничивается стихами для детей. Замечательны её произведения о природе Верхневолжья, размышления о жизни, о судьбе человека, испытавшего лишения и трудности, пережившего годы войны и репрессий. В своем творчестве она опирается на глубокие традиции русской литературы и фольклора. Особое место в её творчестве занимает точный и яркий эпитет, сравнение, метафора. Большое внимание поэтесса уделяет инструментовке стиха, его мелодичности. Не случайно многие её стихи положены на музыку.
Г. р. лагздынь, тверская литература, стиль, жанр, фольклоризм, постоянные эпитеты, стихосложение, инструментовка
Короткий адрес: https://sciup.org/146122083
IDR: 146122083 | УДК: 821.161.1(470.331)
Текст научной статьи Стилевое своеобразие поэзии Гайды Лагздынь
Гайда Рейнгольдовна Лагздынь родилась 1 августа 1930 года в Ленинграде, из которого после расстрела отца в 1937 г. была выслана с матерью и братом в г. Калинин. С отличием окончила Калининский государственный педагогический институт, более сорока лет работала учителем в школе. Лагздынь получила всероссийскую известность как детская писательница. Сборники её стихов были опубликованы издательствами «Детская литература», «Малыш», «Московский рабочий», «Алашара» (Грузия), «Дрофа», «Алтей и К», «Махаон» и т. д. Всего было выпущено в свет более 170 поэтических книг общим тиражом более 11 миллионов экземпляров. Гайда Лагздынь – автор многочисленных книг и сборников, вышедших в музыкальных издательствах «Советский композитор» (Москва), «Музыка» (Москва), «Райдуга» (Киев), «Композитор» (С.-Петербург). Стихи и сказки Гайды Лагздынь переведены на белорусский, удмурдский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки, печатались в сборнике «Русская поэзия» во Франции. Она автор переводов с литовского, украинского, абхазского, кумыкского, азербайджанского языков. Член Союза писателей России.
В 1987 г. писательницей был создан детский музыкальный театр, который получил звание «Народный», затем «Образцовый» и трижды становился лауреатом всероссийских конкурсов театральных коллективов в Москве. В течение многих лет Г. Р. Лагздынь являлась членом правления областного общества книголюбов, членом правления областного отделения Детского фонда России, членом правления Ассоциации женщин-писательниц России, членом правления Тверского отделения Союза писателей.
Гайда Рейнгольдовна Лагздынь – Лауреат II Всесоюзного конкурса Госкомиздата и Союза писателей СССР, Лауреат по Центральному федеральному округу РФ в области литературы и искусства в номинации «За произведения для детей и юношества и творчество молодых», Лауреат литературной премии губернатора, дипломант V Всероссийского конкурса премии «Хрустальная роза Виктора Розова»
с вручением медали «За вклад в отечественную культуру». Награждена памятной медалью к 100-летию со дня рождения Михаила Шолохова, нагрудными знаками «Крест св. Михаила Тверского», «За заслуги в развитии Тверской области».
Безусловно, творчество Г. Лагздынь давно стало органической частью тверской поэзии, тверского литературного процесса, который вышел на общероссийский и международный уровень. Поэтесса принадлежит к числу тех тверских авторов, которые «выработали себе четкое мировоззрение и пытаются не просто отображать то, что наблюдают или переживают, но воссоздавать жизнь с определенной точки зрения, выражать свою позицию» [7, с. 68]. Однако изучение ее творчества только начинается. Данная статья – один из первых опытов литературоведческого осмысления поэзии Г. Лагздынь, необходимое звено в серии статей о тверской поэзии и прозе, которую целенаправленно реализуют в последние годы преподаватели Тверского университета [1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 18; 19; 20; 21].
Детскую поэзию Лагздынь глубоко и профессионально охарактеризовала известный литературовед и критик С. Ю. Николаева.
«Познание мира маленьким человеком начинается с наблюдений над окружающей природой, над теми чудесными изменениями, которые в ней происходят. Чередование времен года, месяцев и дней, времени суток, звуков и запахов, красок и форм, дождя и снега, тепла и холода, встречи с обитателями леса, знакомство с животными и птицами, грибами и ягодами, цветами и деревьями – все это суть проявления живой жизни, которую воспринимает и в которой участвует ребенок. Очень важно, чтобы общение ребенка с миром было закреплено в слове – метком, точном, ласковом, веселом, добром.
Поэтическое слово Гайды Лагздынь отличается ясностью, образностью, оригинальностью, истинно народным характером, оно будит детское воображение и детское словотворчество. Замечательно, что в своих стихах поэтесса опирается на традиции русского фольклора, русскую календарную поэзию, ведь речь современных горожан все больше упрощается, нивелируется, становится невыразительной и скучной. Благодаря книге Гайды Лагздынь и родители, и дети вспомнят массу народных пословиц, поговорок, загадок, сочных и образных слов, ярких эпитетов. Поэтесса старается говорить с ребенком если и не на его собственном языке, то, по крайней мере, на языке, ему понятном и доступном. Гром у нее получает имя «Грохотало», песня пчелки у нее «жужжистая», весна напоминает сороконожку, потому что наступает бурно и дружно, а еще она «лучистая, зеленая, журчистая»; радуга похожа на «семицветное коромысло», апрельская капель «семизвонная». Героями стихотворений Гайды Рейнгольдовны оказываются Морозыч, Мороз Иваныч, Вьюга Вьюговна, Мать-Зима, мадам Сорока, елочки-Дюймовочки… Очень важно, чтобы общение ребенка с миром было закреплено в слове – метком, точном, ласковом, веселом, добром» [6, с. 3].
Поэтическое творчество Г. Лагздынь не ограничивается стихами для детей. Замечательны её произведения о природе Верхневолжья, размышления о жизни, о судьбе человека, испытавшего лишения и трудности, пережившего годы войны и репрессий. В своем творчестве она опирается на глубокие традиции русской литературы и фольклора. Особое место в её творчестве занимает точный и яркий эпитет, сравнение, метафора. Большое внимание она уделяет инструментовке стиха, его мелодичности. Не случайно многие её стихи положены на музыку. Аллитерации и ассонансы встречаются чуть ли не в каждом стихотворении: «Шорохи в ворохе листьев опавших…», «Меня поток нес леденя, / На дно холодное маня», «Я раство- рилась вся вдали. / Душа парит над облаками», «Им вольные ветры свободу несут, / Им вольные ветры свободу несут…», «Под пушистым покрывалом / Есть подушки с одеялом. / На подушки, бросив ушки, Спят тропиночки-девчушки», «Мрачная музыка мрачного леса», «язычок свечи».
Для поэтического стиля Лагздынь характерно широкое использование поэтизмов: звездный палантин, небесное горнило, вплоть до старославянизмов: златой песок, зерно златое .
Создавая стихи для детей, поэтесса выработала своеобразные принципы создания поэтического текста. Простота, ясность и зримость поэтического образа, игровое начало, особое внимание к инструментовке, звуковому ряду, афористичность. Так, в цикле «Календарь» она создала картины времен года. Стихи, посвященные зиме, включают в себя и пейзажные зарисовки («Пруд, река – заледенели, / Ветры жгучие запели./ На сверкающий ледок / Лёг пушистый холодок»), и монолог сказочного персонажа, например, Стужи («Я повсюду походила, / Всюду сетью поводила, / Изловила всё тепло. / Чтоб тепло не утекло…»), и сюжетные стихи («Шел морозец маленький / Лунною дорожкой! / Нёс Морозец сладкую / Ягоду морошку…»). Обращается поэтесса к сказке и мифу («Идет мороз по травушке, / Шагает по тропиночке, / На травушке-муравушке / Серебряные дьдиночки»), широко использует олицетворения и персонификации («Призадумался валежник / В белой шубе, с бородой, / Под снегами спит подснежник / И малинник молодой»). Особую интимность, задушевность и доверительность стиху придают уменьшительно-ласкательные суффиксы: ледок, тропиночка, травушка, дороженька, звездочки, огонёк . При этом Лагздынь остается реалистом в конкретной детали природного мира. Из её стихов маленький читатель узнает, как зимует, например, заяц, воробей или медведь.
Можно сказать, что поэтесса прошла школу высшего пилотажа – детского стиха, которая помогла ей создать подлинно профессиональные стихи для взрослого, умудренного жизненным опытом читателя. Но изюминка её творчества заключается в том, что она не забывает: человек до конца жизни сохраняет в душе что-то детское, наивное, хотя и пытается скрыть это от окружающих. Трогательно и задушевно звучит стихотворение «Что ты, полюшко, затуманилось?..», стилизованное под обращение к отдельным явлениям природы или природному миру в целом, широко распространенное в устном народном творчестве. Но при этом в стихотворении поднимается актуальнейшая тема памяти о войне со всем её трагизмом и героизмом:
Ой, ты, полюшко колосистое.
Ой, ты, горюшко голосистое.
Было полюшко смертью пахано, Не зерном златым, горем сеяно, Не свела война парней с близкими, Поросла земля обелисками.
Как во полюшке рожь высокая.
Как у Родины грусть глубокая.
Спрячь печаль свою, думу горькую, Обнимись, Земля, с алой зорькою! Над страной взошло солнце красное, По стране идёт утро ясное. [3, с. 138].
Творчество Г. Лагздынь продолжает ту линию развития русской поэзии, которая основана на устно-поэтической традиции. В той или иной степени связь с фольклором характерна для каждого русского поэта, однако способы освоения народно-поэтических традиций зависят от индивидуальности художника, жанрово-стилевых особенностей и идейно-художественных задач конкретного произведения. Вопрос состоит в том, чтобы не просто установить факт влияния фольклора на творчество того или иного поэта, а выяснить особенности этого влияния.
Угол преломления фольклорной традиции находится в прямой зависимости от принадлежности поэта к конкретно-реалистическому или романтическому стилевому течению, к постмодернизму и т.п. Фольклор может восприниматься автором как живое народное искусство слова, имеющее непреходящее значение, или же как символ прошлого, патриархального или экзотического, или же как объект литературной игры, пародирования, переворачивания. Принципы использования фольклора могут быть различны. Например, очевидна разница в трактовке фольклорных мотивов и образов в поэзии М. Исаковского, А. Прокофьева, Н. Рыленкова, А. Яшина, О. Фокиной, Н. Рубцова, с одной стороны, и у П. Васильева, В. Цыбина, А. Вознесенского, Ю. Кузнецова – с другой. У этих поэтов разные художественные задачи. Для одних самое важное в фольклоре – духовное начало, его нравственные богатства. Эти поэты облагораживают народную поэзию, освобождают ее от всего грубого, натуралистического. Других привлекают яркие, броские фольклорные образы, ценные своей подлинностью и жизненной силой. Но во всех случаях элементы фольклора становятся стилеобразующим и жанрообразующим фактором в творчестве современных поэтов.
Теснее всего произведения Г.Р. Лагздынь сближаются с народной песней. Эту взаимосвязь поддерживают и образная система в целом, и особенно постоянные эпитеты: рожь высокая, грусть глубокая, дума горькая, солнце красное, утро ясное, сокол ясный, заря алая, снег белый . При этом чаще всего используется характерная для народной поэзии инверсия. Поэтесса широко вводит в текст ласкательно-уменьшительные формы: полюшко, горюшко, зорька . Метафоры, метонимии, отрицательные сравнения и олицетворения также создаются по образу и подобию народных: «Что ты, полюшко, затуманилось? Призадумалось, запечалилось…», «Было полюшко смертью пахано», «Не зерном златым, горем сеяно», «Поросла земля обелисками». Народному стиху соответствует и ритмика стиха Лагздынь со сдвигами ударений и дактилической клаузулой.
Воздействие фольклора может проявляться на разных уровнях: от лексики и отдельного образа до характера героя, сюжета и идеи произведения. Постоянные эпитеты, народная символика, параллелизмы и метафоры, пословицы и поговорки, народное поверье, песня, сказка органически вплетаются в произведения, не нарушая стилевого единства. Все это в полной мере можно отнести к поэзии Г. Лагздынь Гражданская позиция Г. Лагздынь прямо выражается в её политической лирике: «Гимн репрессированным», «Мать-земля», «Песня любви». В стихотворении «Старые окопы» память о тех, «кто сражался без страха», хранит вся природа Верхневолжья, которая до сих пор хранит следы далёкой войны: «Обвалились окопы, заросли бузиной», «Смотрят строго воронки в золотистой пыли», «Чуть приметно вздохнула в давних шрамах сосна», «Обвалились окопы да траншеи ходы». Но как природа залечивает раны, так жизнь побеждает смерть. В этом пафос стихотворения: «Молодые сосёнки на бугре зацвели», «Расшумелась вдруг птаха, как ей знать о былом?», «Делят что-то сороки, не стыдясь, на виду. / Разомлел на припёке вереск в белом меду».
Стихотворение «Песня любви» посвящено женщинам, погибшим в застенках Равенсбрука. Красота окружающего мира оттеняет трагизм утраты, а рефрен
«Нет тебя на земле, только песня любви» и включение лирического героя придают произведению пронзительный лиризм:
Колокольчик взглянул синевой милых глаз, Над туманной рекой месяц бледный погас, Облака в вышине, словно кудри твои, Нет тебя на земле, только песня любви.
Шепчут что-то цветы, наклонясь над землёй, Тихо тает туман, как и я, весь седой, Заалел край земли, словно губы твои,
Нет тебя на земле, только песня любви [3, с. 141].
Стихи о любви Г.Р. Лагздынь имеют выход к широким вселенским горизонтам: «Любовь уходит в пустоту Вселенной, / Отдав тепло прочитанных молитв. / Душа любви — комок всех чувств нетленных! /Любовь земная – для Вселенной миг!» Поэтесса одухотворяет окружающий мир, душа лирической героини растворена в мире природы:
Когда росинка упадёт
На листик малый, на травинку, То знай, душа моя бредёт И гладит каждую былинку.
Когда подует ветерок
И колыхнёт сухие травы,
Ты знай, душа моя идёт
По струнам божьей переправы.
А коль снежинка прилетит, Блестящей искоркой сверкая Ты знай, душа моя скорбит, В холодном камне замерзая [3, с. 142].
Глубочайшая сердечность пронизывает стихи Лагздынь о Твери. Детали урбанистического мира: этажи, балконы, причалы – опоэтизированы с помощью олицетворений, взятых из мира природы, и яркой экспрессии любви лирической героини:
Над городом сомкнулась тишина, На плечи положив тихонько руки, Прошлась по улицам на цыпочках луна, Зажгла огни и погасила звуки.
Тишина над Волгой и Тверцой, Тишина повисла над причалом. Входит вечер в город мой родной, Где любви и радости начало [3, с. 142].
Для Лагздынь характерен особый, сердечный лиризм. Одно из стихотворений поэтессы так и называется – «Поэзия сердца». К творческому процессу, к поэтическому творчеству она относится с внутренним трепетом: «Прекрасен миг рожденья муз, / Душа в невольном трепетанье, / Слетает с сердца тяжкий груз / И ангел принял покаянье», – пишет она в стихотворении «Какой туман окутал лес?» Писать стихи – это и необыкновенная радость («О чудо! Счастье творчества! Волненье! / О сладкий миг – рожденье нежных строк. / Бальзам на сердце! Радость! Вдохновенье! / Из лепестков – венок!»), и тяжкий, мучительный труд («Как беззащитен ты, поэт, в призванье вечном / Нести прилюдно чувственный свой крест…»).
Поэтесса не только передаёт цветовую гамму природного мира, но и многообразие его звуков и запахов. Больше того, она слышит музыку каждого времени года, времени суток, которая находится в гармонии с чувствами лирического героя («Ночная музыка»). Несомненно, природу она воспринимает как Божий мир: «Так знай: душа моя зовёт / Воспеть всю радость божьих трелей», – подчеркивает поэтесса. Капельки дождя для неё – это «слёзы божьи». Можно сказать, что творчество Лагздынь лежит в русле жанрово-стилевого потока поэзии духовного реализма, но не в узком понимании этого термина, как выражения православного мировоззрения, а в широком, основанном на подлинно народном взгляде на мир, куда включается и вера (наше понимание и обоснование термина см.: [12; 14; 15; 17]). Её идеалы основаны на миропонимании, взывающем к добру и справедливости.
Список литературы Стилевое своеобразие поэзии Гайды Лагздынь
- Василевская Ю. Л., Громова П. С., Косоурова Н. Р. Своеобразие художественного метода И. С. Соколова-Микитова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 1. С. 14-19.
- Лагздынь Г. Р. Пели песню гусельки: стихи. Тверь, 2017. 256 с.
- Лагздынь Г. Р. Стихи//Тверская поэзия ХХ-ХXI веков: антология. Тверь: Книжный клуб, 2016. С. 138-143.
- Лосева Н. В. Связь древности и современности в повести Ю. В. Красавина «Великий мост»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 1. С. 303-307.
- Николаева С. Ю. Художественная философия Н. И. Тряпкина и Ю. П. Кузнецова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010.№ 21. Вып. 5. С. 71-81.
- Николаева С. Ю. Лагздынь Г. Р. Пели песню гусельки: стихи. Тверь, 2017. С. 3.
- Николаева С. Ю. «Когда минет злоба дня и настанет будущее…»: новые книги тверских поэтов и литературный процесс//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. Вып. 3. С. 68-81.
- Николаева С. Ю. Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова и Владимира Львова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 1. С. 68-79.
- Николаева С. Ю. Поэтическая книга как жанр в творчестве Г. Степанченко//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 4. Вып. 1. С. 88-96.
- Николаева С. Ю. Художественная философия Н. И. Тряпкина и Ю. П. Кузнецова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010. Вып. 21. С. 63-71.
- Николаева С. Ю. «Я наблюдаю черную луну...». Характер лирического героя в творчестве тверских поэтов-романтиков//Мир романтизма: материалы юбилейной конференции. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2016. С.233-244.
- Редькин В. А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В.Я. Шишкова. Тверь: Тверское обл. кн.-журн. изд-во, 1999. 152 с.
- Редькин В. А. Наследие Ю. Кузнецова в творчестве тверских поэтов//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2015. Вып. 1. С. 93-101.
- Редькин В. А. Онтологические проблемы в творчестве Сергея Есенина//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2007. Вып. 14. С. 52-57.
- Редькин В. А. Роль «Слова о Законе и Благодати» Илариона в поэме-цикле Ю. П. Кузнецова «Путь Христа»//Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2010. № 21. Выпуск 5. С. 81-88.
- Редькин В. А. Романтические тенденции в тверской поэзии (Л. Нечаев, В. Карпицкая, Т. Большакова)//Романтизм: грани и судьбы. Ученые записки. 2014. Выпуск 11. С. 109-119.
- Редькин В. А. «Русская идея» Юрия Кузнецова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2004. № 2 (4). Вып. 1. С. 48-68.
- Редькин В. А. Тверская поэзия на современном этапе//Филологическая регионалистика. Научный информационный журнал. Тамбов: Тамбовский гос. ун-т; Тамбовское обл. филол. об-во. 2013. № 2 (10). С. 13-15.
- Редькин В. А. Творческая индивидуальность тверской поэтессы Л. Гордеевой//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 10. Вып. 3. С. 61-70.
- Редькин В. А. Художественный мир Анатолия Устьянцева//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. Вып. 4. С. 102-112.
- Редькин В. А. Художественный мир прозы Виктора Крюкова (1926-2015)//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 3. С. 82-89.