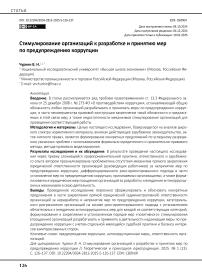Стимулирование организаций к разработке и принятию мер по предупреждению коррупции
Автор: Чуркин В.Н.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (23), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассматривается ряд проблем правоприменения ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливающей общую обязанность любых организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, в части несовершенства правовой конструкции закрепления такой обязанности и предлагаемых в этой связи мер, а также недостаточности механизмов стимулирования организаций для проведения соответствующей работы.Методология и материалы. Целью настоящего исследования, базирующегося на анализе широкого спектра нормативного материала, включая действующее зарубежное законодательство, актов «мягкого права», является формирование конкретных предложений по успешному разрешению указанных проблем с использованием формально юридического и сравнительно-правового метода, метода правового моделирования.Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведения настоящего исследования через призму сложившейся правоприменительной практики, отечественного и зарубежного опыта автором проанализирована проблематика отсутствия механизма прямого закрепления юридической ответственности организаций (руководящих работников) за непринятие мер по предупреждению коррупции, дифференцированного риск-ориентированного подхода в части установления мер по предупреждению коррупции, принимаемых организациями, а также формализованных юридических мер поощрения организаций за разработку и внедрение антикоррупционных механизмов в свою деятельность.Выводы. Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать конкретные предложения в части закрепления прямой юридической (административной) ответственности организаций за неразработку и непринятие мер по предупреждению коррупции, категориального разграничения организаций на основе риск-ориентированного подхода с установлением обязательных к внедрению антикоррупционных мер для каждой из соответствующих категорий, формулирования и закрепления в установленном порядке мер «позитивного» стимулирования (поощрения) организаций разрабатывать и применять в деятельности надлежащие меры по предупреждению коррупции с учетом отдельной имеющейся судебной практики и баланса интересов заинтересованных сторон.
Предупреждение коррупции, антикоррупционные меры, ответственность организаций
Короткий адрес: https://sciup.org/14133139
IDR: 14133139 | DOI: 10.22394/3034-2813-2025-5-126-137
Текст научной статьи Стимулирование организаций к разработке и принятию мер по предупреждению коррупции
-
12 лет назад, 3 декабря 2012 г., Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»1 (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ) был дополнен ст. 13.32, установившей обязанность любых организаций, вне зависимости от организационно-правовой формы, размера и/ или сферы деятельности3 (включая, конечно же, широкий спектр организаций с государственным участием — например, категорию организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами), разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Следуя логике ратифицированной Российской Федерацией еще в 2006 г.4 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, принятой в Нью-Йорке 31 октября 2003 г.5, указанная статья заложила основу самостоятельного проведения антикоррупционной политики в «корпоративной» среде, включив отечественные организации в единый государственный антикоррупционный контур, которые, однако, так и остались за рамками «организационных основ» противодействия коррупции в контексте ст. 5 Федерального закона № 273-ФЗ.
Несмотря на развитое организационно-методическое6 сопровождение проводимой организациями в пределах имеющихся ресурсов и компетенций антикоррупционной политики, продолжительная практика применения положений ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ как правовой основы этой работы указала на ряд «изъянов» и общее «моральное» устаревание закрепляемых данной статьей механизмов, направленных на предупреждение коррупции в организациях. В рамках же настоящей статьи мы хотели бы сосредоточить свое внимание лишь на ряде таких аспектов как вызывающих наибольшую обеспокоенность:
-
– отсутствие механизма прямого закрепления юридической ответственности организаций (руководящих работников) за невыполнение обязанности, установленной ч. 1 ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, то есть за непринятие мер по предупреждению коррупции (в качестве способа «негативного» стимулирования);
-
– отсутствие дифференцированного риск-ориентированного подхода в части установления мер по предупреждению коррупции, принимаемых организациями, вариативность/диспозитивность и в ряде случаев недостаточность таких мер;
-
– отсутствие формализованных юридических мер поощрения организаций за разработку и внедрение антикоррупционных механизмов в свою деятельность (в качестве способа «позитивного» стимулирования).
Дальнейший проведенный анализ формирования соответствующего правового института в разрезе в том числе исторического контекста и наблюдаемых (негативных) тенденций развития сферы позволяет сформулировать конкретные предложения по успешному разрешению указанных проблем, что является непосредственной целью настоящей работы.
Методология и материалы
Настоящее исследование базируется на анализе широкого спектра нормативного материала, включая действующее зарубежное законодательство, актов «мягкого права»: официальных разъяснений и методических документов, разрабатываемых уполномоченными на это органами государственной власти, сложившейся правоприменительной практики, в том числе решений правоохранительных и судебных органов, а также позиций представителей научного сообщества по исследуемой проблематике.
Ключевыми применяемыми методами выступают формально-юридический и сравнительно-правовой методы, а также метод правового моделирования.
Проведенный анализ упомянутых материалов с применением указанных методов позволил сформулировать и обосновать конкретные предложения, направленные на эффективное разрешение выделенных в рамках настоящей работы проблем.
Результаты исследования и их обсуждение
Отсутствие механизма прямого закрепления юридической ответственности организаций (руководящих работников) за непринятие мер по предупреждению коррупции
В контексте обсуждения первой из выделенных нами проблем, связанных с применением положений ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, необходимо отметить, что само по себе отсутствие формализованной юридической ответственности организаций непосредственно за непринятие мер по предупреждению коррупции тем не менее дополняется широким спектром иных правонарушений коррупционного характера, за которые уже установлена вполне реальная ответственность (иные негативные юридические последствия). Речь, в первую очередь, может идти о незаконном вознаграждении от имени (или в интересах) юридического лица (ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях7 (далее — КоАП РФ)), включая последующий запрет на участие в государственных или муниципальных закупках сроком на два года8, незаконном привлечении к трудовой деятельности, выполнению работ и/или оказанию услуг (бывших) государственных и/или муниципальных служащих (ст. 19.29 КоАП РФ), даче взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации9 (далее — УК РФ)), коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) и т. д.
В то же время непринятие организациями мер по предупреждению коррупции, способствующее реализации рисков в этой сфере, в качестве последствий помимо штрафных санкций, других прямых убытков, привлечения к уголовной ответственности отдельных (ценных) работников, сопряженного с их длительным (или окончательным) выбытием из хозяйственного процесса, приводит также к иным, прежде всего, репутационным потерям (отказ контрагентов от сотрудничества, негативное восприятие на рынке труда в качестве потенциального работодателя и т. д.).
Тем не менее до сих пор большинством представителей экономических субъектов, по крайней мере так называемого малого и среднего бизнеса, необходимость разработки и принятия соответствующих мер в полной мере не осознана. Отчасти, конечно, это связано с ограниченностью материальных, финансовых, кадровых и других ресурсов, фокусом на иные виды рисков — коммерческие, финансовые, производственные и т. д.
Вместе с тем говорить о полном отсутствии юридической ответственности за неразработку и непринятие организациями мер по предупреждению коррупции представляется не совсем корректным — такая ответственность существует и реализуется опосредованно через механизм прокурорского надзора за «исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации», в том числе «органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций»10. Так, реализуя полномочия по вынесению представлений об устранении выявляемых нарушений (антикоррупционного) законодательства в рамках осуществления соответствующих контрольных мероприятий органы прокуратуры фактически понуждают организации проводить упомянутую работу, при необходимости обращаясь в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц. При этом за (умышленное) невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, на граждан, должностных и юридических лиц возлагается административная ответственность в виде штрафа, дисквалификации и/ или административного приостановления деятельности соответственно, согласно ст. 17.7 КоАП РФ.
Однако, вооружившись тезисом об обеспечении заложенных в юридических нормах обязанностей субъектов права принудительной силой государственного аппарата (иными словами, каждой обязанности должна корреспондировать соответствующая ей мера ответственности за неисполнение), а так- же приняв во внимание очевидную ограниченность ресурсов органов прокуратуры по проведению в отношении организаций соответствующих контрольных мероприятий, предложим в качестве меры «негативного» стимулирования разработку механизма привлечения организаций к административной ответственности (на фоне отсутствия в отечественной правовой системе института уголовной ответственности юридических лиц11)за неразработку и непринятие мер по предупреждению коррупции в соответствии с ч. 1 ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ посредством установления самостоятельного состава административного правонарушения, объективная сторона которого будет связана с пассивным поведением (бездействием) правонарушителя — юридического лица, в соответствующей части. Отметим, что законотворческая практика изобилует примерами конструирования юридических норм об административной ответственности подобным образом12.
Предложенная мера, на наш взгляд, возымеет профилактическое действие, реализовав предупредительную и воспитательную (исправительную) функции возможного наказания, эффективным образом также обратив внимание профильных специалистов и общества на необходимость и важность принятия комплексных мер по предупреждению коррупции.
Некоторым подтверждением правильности выбранного нами «вектора» может служить зарубежный опыт — принятый в 2016 г. и вступивший в силу с 1 июля 2017 г. французский закон № 2016-1691 «О прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономической жизни» (Sapin-II13), имеющий экстерриториальное действие (возможность уголовного преследования за коррупционные правонарушения виновных лиц за рубежом в случае наличия предусмотренной связи с Францией), предусматривает, помимо прочего, закрепление обязанности отдельных (крупных) компаний предпринимать меры по предупреждению коррупции (утверждение кодекса поведения, разработка карты рисков, внедрение систем корпоративного обучения и информирования о случаях коррупции («горячая линия»), проверка контрагентов и другое), а также устанавливает ответственность в виде штрафа для виновных физических (до 200 тыс. евро) и юридических (до 1 млн евро) лиц за неисполнение обязательств по осуществлению предусмотренных упомянутым законом мер по предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в организации.
В свою очередь, также имеющий экстерриториальное действие закон Великобритании «О взяточничестве» 2010 г. (United Kingdom Bribery Act — UKBA) включает самостоятельное нарушение, сформулированное как «неспособность коммерческих организаций предотвратить взяточничество» (ст. 7 (2))14.
Отсутствие дифференцированного риск-ориентированного подхода в части установления мер по предупреждению коррупции, принимаемых организациями
Помимо отсутствия формализованной прямой ответственности организаций за неразработку и непринятие мер по предупреждению коррупции, наблюдаются и отдельные «дефекты» практики применения ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, связанные с несовершенством конструирования ее норм. Экспертным и научным сообществами выделяются следующие проблемы15:
-
– одновременное сочетание императивного (ч. 1) и диспозитивного (ч. 2) подходов;
-
– связанная с этим неопределенность мер, достаточных для признания организации выполнившей требование относительно разработки и принятия мер по предупреждению коррупции, равно как и избыточные требования в указанной части к организациям в ряде случаев;
-
– отсутствие риск-ориентированного дифференцированного подхода при установлении обязанности организаций разрабатывать и принимать соответствующие меры;
-
– устаревание (недостаточность) отдельных мер, предлагаемых ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ.
Однако в интересах настоящей работы подробно рассмотрим лишь предпоследнюю выделенную нами проблему.
Статья 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ ч. 1 устанавливает обязанность любых организаций, вне зависимости от организационно-правовой формы, сферы деятельности, финансовых результатов, количества сотрудников и иных факторов (в этом контексте интересен вопрос об отнесении к категории организаций органов государственной власти), разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, в ч. 2 предлагая конкретные такие меры в качестве возможных.
При этом позиция (практика) отдельных прокуроров и судов свидетельствует о возложении на организацию обязанности по разработке и внедрению всех мер, предусмотренных в упомянутой статье, — в частности, в одном из своих решений Арбитражный суд Волго-Вятского округа, ссылаясь на методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты по соответствующему вопросу16, пришел к выводу, собственно, о необходимости принятия всего комплекса мер по предотвращению коррупционных правонарушений, признав отсутствие исчерпывающего характера в отношении мер, уже внедренных в организации в данной части на тот момент17. К аналогичному выводу ранее приходил и Первый арбитражный апелляционный суд18. Такой подход приводит, на наш взгляд, к некоторым «перекосам», когда в организациях формально внедряются антикоррупционные меры, не соответствующие профилю рисков их деятельности, а значит, абсолютно неэффективные (так называемый «бумажный комплаенс» — лишь для формального (видимого) соответствия требованиям). Так, известны примеры19 разработки (по представлению прокурора) положений/политик о сотрудничестве с правоохранительными органами государственными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (детскими садами), где реализация существенных коррупционных рисков представляется хоть и возможной, но весьма маловероятной (в том числе ввиду численности персонала), демонстрируя неадекватность принимаемых мер (внедряемых механизмов)относительно возможных рисков.
С другой стороны, согласно действующему законодательству, внедрение лишь одной из мер, предусмотренных ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, равно как и любой другой меры по предупреждению коррупции организацией, имеющей в силу своей деятельности значимые коррупционные риски с существенными последствиями их реализации (крупные финансовые, производственные компании, в том числе системообразующие, «государственные» предприятия, включая оборонные), является достаточным основанием для признания такой организации исполнившей соответствующую обязанность.
Подобный дисбаланс (вызванная им неопределенность) препятствует реализации профилактического потенциала норм, заложенных ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, и не способствует достижению целей правового регулирования данной сферы.
В качестве решения выявленной проблемы очевидным представляется разграничение (дифференциация) антикоррупционных требований в отношении различных категорий организаций с учетом их риск-профилей и соблюдением баланса интересов (соответствия ожидаемого эффекта затратам на внедрение):
-
– установление обязательного «гигиенического» минимума для всех без исключения организаций (при этом необходимо не допустить установление избыточных требований, которые могут быть
обременительны, например, для микро- и малых предприятий, где коррупционные риски не столь существенны, а персонал, как правило, знает друг друга буквально «в лицо»);
-
– установление «расширенного» перечня подлежащих к обязательному внедрению мер для отдельных категорий организаций, на регулярной основе сталкивающихся в своей деятельности с коррупционными проявлениями (или же где соответствующие риски имеют значительный отрицательный эффект в случае реализации).
В частности, по указанному пути дифференциации антикоррупционных требований пошел французский законодатель, в уже упоминаемом законе № 2016-1691 «О прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономической жизни» (Sapin-II) возложивший обязанность принимать перечисленные в нем меры по противодействию коррупции на зарегистрированные в национальной юрисдикции компании, имеющие штат не менее 500 сотрудников (в том числе в группе компаний), а также (консолидированный групповой) оборот более 100 млн евро20.
В контексте вышеизложенного повышенное значение приобретают вопросы установления четких (юридических) критериев организаций, подпадающих под расширенное регулирование, а также определения набора мер, подлежащих обязательному внедрению той или иной категорией организаций.
Относительно первого вопроса, с учетом масштаба деятельности и влияния на национальную экономику (в том числе в разрезе особо «чувствительных» отраслей и осуществления социально значимых функций), к категории субъектов с повышенным (коррупционным) риском с возложением на них дополнительных требований предлагается отнести:
-
– крупные и крупнейшие организации/предприятия, определяемые на основании критериев, установленных в законодательстве21 (в данном случае — по методу исключения («от противного»));
-
– организации, включаемые в специальные перечни22 (системообразующие / системно значимые организации, равно как и имеющие существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан, обороноспособности и безопасности государства и т. д.);
– обобщенную категорию «государственных организаций», включающую государственные (муниципальные) учреждения и унитарные предприятия, государственные корпорации (компании), публично-правовые компании, организации независимо от их организационно-правовой формы, учредителем которых является Российская Федерация (субъект Российской Федерации / муниципальное образование), государственные внебюджетные фонды, организации, в отношении которых Российская Федерация (субъект Российской Федерации / орган местного самоуправления) является контролирующим лицом (с учетом положительного опыта Казахстана, внедрившего в национальное законодательство категорию «субъектов квазигосударственного сектора» — организаций: «государственных предприятий», «акционерных обществ», «национальных холдингов» и т. д., учредителем, участником или акционером которых является государство, включая дочерние, зависимые и иные юридические лица, аффилированные с ними23.
Тем не менее в целях соблюдения баланса интересов и адекватности внедряемых мер, принимая во внимание большое разнообразие сфер, реализуемых функций и различие масштабов деятельности «государственных организаций», полагаем необходимым установление в отношении них дополнительных критериев для возложения соответствующих обязанностей — реальное ведение деятельности и среднесписочная численность персонала за календарный год в размере не менее, например, 50 работников.
Следующий поставленный нами вопрос касался определения конкретных антикоррупционных мер, подлежащих обязательному внедрению теми или иными организациями.
Опираясь на доказавший эффективность зарубежный опыт, ведущие международные стандарты, имеющиеся методические материалы и лучшие корпоративные практики отечественных компаний в рассматриваемой сфере24, полагаем, что современные подходы к предупреждению коррупции должны включать:
-
– для всех (любых) организаций: определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации, включая кодекс этики и служебного поведения работников организации, а также предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
– для отдельных упомянутых категорий организаций в дополнение к вышеперечисленным мерам: регулярное проведение оценки коррупционных рисков с формированием карты (перечня) таких рисков, разработку мер по их минимизации, внедрение в деятельность (бизнес-процессы) контрольных процедур, направленных на недопущение коррупционных проявлений, обучение персонала:регулярное проведение тематических мероприятий, тренингов и активностей, в том числе ведение внутрикорпоративных коммуникаций, обеспечение работы каналов информирования о возможных коррупционных проявлениях в деятельности организации («горячая линия»).
Иные возможные меры, оставшиеся, однако, за рамками нашего предложения, могут включать ведение общедоступного антикоррупционного раздела на официальном интернет-сайте, а также регулярные подготовку и публикацию отчетности в анализируемой сфере. Не рассматривается в качестве соответствующей обязательной меры и проверка контрагентов на предмет их благонадежности в рамках обеспечения «должной осмотрительности», традиционно относимая к сфере налоговых правоотношений25.
Отсутствие формализованных юридических мер поощрения организаций за разработку и внедрение антикоррупционных механизмов в свою деятельность
В контексте важности сохранения хрупкого баланса карательных и поощрительных, стимулирующих механизмов регулирования соответствующей сферы правоотношений, актуальным представляется вопрос о создании надлежащих условий для формирования и развития, прежде всего, позитивного ожидаемого поведения от субъектов права — то есть установлении не только и не столько санкций за непринятие организациями необходимых мер антикоррупционного характера, но и разработке мер «побудительного» свойства.
Такие возможные меры неоднократно озвучивались самими представителями бизнес-сообщества на различных профессиональных дискуссионных площадках26. В первую очередь, речь заходит об освобождении организаций, разработавших и внедривших надлежащие механизмы по противодействию коррупции, от административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица согласно ст. 19.28 КоАП РФ. В действующей же редакции КоАП РФ освобождение юридического лица за действия, предусмотренные данной статьей, предусмотрены лишь в случае способствования организации выявлению соответствующего правонарушения, проведению административного расследования и/или выявлению, раскрытию и расследованию связанного с этим преступления, равно как и имевшего место быть факта вымогательства27.
При этом зарубежное законодательство и правоприменительная практика в данной сфере вновь демонстрируют немало примеров «позитивного» стимулирования организаций внедрять эффективные антикоррупционные меры (комплаенс) — так, уже упоминаемый нами ранее экстерриториальный закон Великобритании «О взяточничестве» 2010 года (UKBA) в разделе 7 (2) прямо предусматривает невозможность привлечения компании к ответственности (за дачу взятки) в случае, если компания докажет применение надлежащих процедур, направленных на предотвращение совершения соответствующих действий связанными с ней лицами28. «Скидка» на наказание за наличие антикоррупционной комплаенс-системы предусмотрена и на уровне официальных разъяснений (методических документов) регулятора в части применения американского «Закона о коррупции за рубежом» 1977 года (Foreign Corrupt Practices Act — FCPA)29, также имеющего экстерриториальный характер.
Таким образом, неудивительно, что в одной из редакций проекта нового кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, разрабатываемого на протяжении нескольких лет при координации Министерства юстиции Российской Федерации, в аналогичной статье (34.34) предусматривается в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, наличие у соответствующего юридического лица принятых в соответствии с законодательством в сфере противодействия коррупции мер по предупреждению коррупции30. Оценку достаточности принятых в этой сфере мер, осуществляемую на основании методики, утверждаемой Правительством Российской Федерации, предлагается отнести к компетенции судьи.
Такая конструкция позволяет в некоторой степени нивелировать неизбежную дискуссию относительно юридико-правовой неопределенности в части восприятия категорий «достаточности» и «надлежащего характера» принимаемых организациями антикоррупционных мер, а также избежать каких-либо посредников в вопросе подтверждения эффективности указанных мер, устранив соответствующий коррупционных риск (формальная разработка мер по предупреждению коррупции и их последующая сертификация в сговоре с уполномоченными организациями в целях избежания наказания).
Тем не менее на этом фоне определенный интерес представляет разработанный еще в августе 2017 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии коррупции” в целях повышения эффективного исполнения организациями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции»31, который:
– в статье 13.3 упомянутого федерального закона определяет конкретный перечень антикоррупционных мер, обязательных для разработки и внедрения определенной категорией субъектов — «государственными» организациями и организациями с государственным участием (включая дочерние и зависимые общества соответствующих юридических лиц), сохраняя при этом общую обязанность любых организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в соответствии с утвержденными «антикоррупционными стандартами»;
– создает правовую основу для формирования, по сути, системы «сертификации» принимаемых организациями мер по предупреждению коррупции на базе разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом государственной власти «антикоррупционных стандартов», образуемого Национального совета по предупреждению коррупции и аккредитуемых им юридических лиц — «экспертных центров», проводящих оценку достаточности принимаемых организациями мер по предупреждению коррупции.
В этой связи отметим, что до настоящего времени возможности по сертификации применяемых в российских организациях антикоррупционных комплаенс-процедур (систем) преимущественно представлены получением Свидетельства об общественном подтверждении реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса32, а также подтверждением соответствия стандартам ISO 37001: 2016 «Системы менеджмента по противодействию взяточничеству» и ISO 37301:2021 «Система управления соответствием — Требования с руководством по применению»33 (при этом примечательно, что в Республике Беларусь сертификация в указанной части также может осуществляться аккредитованной компанией на базе принятого одноименного (и практически идентичного) государственного стандарта СТБ ISO 37001-2020 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению»34).
Вопрос целесообразности формирования системы национальных антикоррупционных стандартов в настоящее время активно поднимается отдельными представителями экспертного и бизнес-сообществ35. Впрочем, согласно позиции международного комплаенс-эксперта с многолетним опытом, руководителя компании Studio Etica В. А. Черепановой, сертификация на предмет соответствия упомянутым и иным подобным стандартам во многом является маркетинговым и PR-ходом, не гарантируя реальное соответствие бизнес-процессов и процедур организации заявленному эталону36, что подрывает, таким образом, статус и авторитет полученного свидетельства (иного документа о соответствии), как и всей системы в целом.
В свою очередь, возвращаясь к предмету настоящей работы, отметим, что российским законодательством и в настоящее время предусмотрен правовой механизм освобождения организации от административной ответственности за соответствующее коррупционное правонарушение в случае наличия эффективных комплаенс-процедур в данной сфере. В частности, это позволяет делать конструкция статьи 2.1 КоАП РФ, не допускающей привлечения к административной ответственности юридического лица в случае принятия им всех предусмотренных законодательством Российской Федерации мер для соблюдения правил и норм, за нарушение которых, собственно, такая ответственность установлена37.
Считается, что впервые подобная практика была применена в решении Сыктывкарского городского суда от 14 октября 2014 г. по делу № 12-1248/2014, ставшего, по сути, судебным прецедентом, когда суд не установил вину юридического лица ввиду вышеуказанных обстоятельств, а значит, и необходимого состава административного правонарушения по ст. 19.28 КоАП РФ, определив, однако, «индивидуальную» вину конкретного работника, совершившего противоправное коррупционное деяние вопреки интересам организации под влиянием собственных мотивов38.
Тем не менее проведенный спустя порядка шести лет анализ практики применения статьи 19.28 КоАП РФ39 показал отсутствие единообразного подхода судов к оценке вины юридических лиц при рассмотрении соответствующей категории дел. Так, суды ссылались на упомянутую ст. 2.1 КоАП РФ или же ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ примерно в одном из пяти дел. В остальных случаях вопрос виновности юридического лица в принципе не анализировался / не был отражен в судебном акте, или суд не учитывал предпринятых организацией мер по предупреждению коррупции. При этом еще в ряде дел устанавливался факт непринятия организацией всех зависящих от нее мер по предупреждению коррупции40.
Вместе с тем, с учетом статуса Верховного Суда Российской Федерации как высшего судебного органа по соответствующим категориям дел, дающего разъяснения по вопросам судебной практики41, а равно статуса и значения издаваемых его Пленумом постановлений в качестве «ориентира, подлежащего обязательному учету в целях вынесения законных и обоснованных приговоров, решений, определений и постановлений»42, полагается целесообразным закрепление позитивной судебной практики относительно учета принимаемых организациями мер по предупреждению коррупции в качестве возможного основания освобождения от административной ответственности по соответствующему правонарушению согласно ст. 2.1 КоАП РФ. При этом такое освобождение должно быть отражено непосредственно в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающегося некоторых вопросов, возникающих при рассмотрении судами дел о привлечении к административной ответственности по ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (возможная конструкция соответствующих формулировок в настоящей работе ввиду ограниченности ее объема не приводится).
Оценку же эффективности и достаточности принятых организацией антикоррупционных мер в ходе рассмотрения дела предлагается отнести к компетенции судьи, обладающего обширным опытом и требуемыми юридическими познаниями, способного, на наш взгляд, провести необходимый анализ в указанной части.
В то же время установленная процедура подготовки и издания постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации представляется значительно более простой, чем внесение соответствующих изменений в федеральное законодательство (это наглядно демонстрирует явно затянувшийся процесс разработки и согласования обновленного Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), что является дополнительным аргументом в защиту нашего предложения.
Кроме того, как было отмечено ранее, оценка эффективности и достаточности принятых организацией антикоррупционных мер непосредственно судьей позволит избежать многочисленных посредников — юридических лиц, в ином случае наделяемых правом проводить указанную оценку, подтверждая соответствие, а значит, и исключить связанный с этим коррупционный риск.
Выводы
Проведенное всестороннее исследование выделенных в начале настоящей работы проблем через призму применимого нормативного материала, включая действующее зарубежное законодательство, актов «мягкого права» — официальных разъяснений и методических документов, разрабатываемых уполномоченными на это органами государственной власти, сложившейся правоприменительной практики, в том числе решений правоохранительных и судебных органов, а также позиций представителей научного сообщества по соответствующей проблематике позволило сформулировать и обосновать конкретные предложения в части совершенствования института разработки и принятия организациями мер по предупреждению коррупции в контексте требований ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, направленные, в первую очередь, на:
– закрепление прямой юридической (административной)ответственности организаций за неразра-ботку и непринятие мер по предупреждению коррупции;
– категориальное разграничение организаций на основе риск-ориентированного подхода с установлением обязательных к внедрению антикоррупционных мер для каждой из соответствующих категорий, включая определение конкретных таких мер;
– формулирование и закрепление в установленном порядке мер «позитивного» стимулирования (поощрения) организаций разрабатывать и применять в деятельности надлежащие меры по предупреждению коррупции с учетом отдельной имеющейся судебной практики и баланса интересов заинтересованных сторон.
Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что сбалансированный дифференцированный подход к установлению обязанности организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, а также органичное сочетание карательных и поощрительных («позитивных») мер стимулирования такой деятельности могут способствовать развитию высокой культуры деловой активности и в целом формированию атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям в обществе.