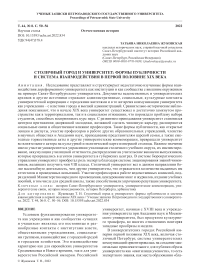Столичный город и университет: формы публичности и система взаимодействия в первой половине XIX века
Автор: Жуковская Татьяна Николаевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 8 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Исследование представляет и структурирует недостаточно изученные формы взаимодействия дореформенного университета как институции и как сообщества с внешним окружением на примере Санкт-Петербургского университета. Документы ведомственных и университетских архивов и другие источники отражают административные, социальные, культурные контакты университетской корпорации с городскими жителями и в то же время коммуникации университета как учреждения - с властями города и высшей администрацией. Сравнительно-исторические наблюдения показывают, что в начале XIX века университет существовал в достаточно замкнутом пространстве как в территориальном, так и в социальном отношении, что порождало проблему набора студентов, способных воспринимать курс наук. С развитием преподавания университет становился центром притяжения дворянской молодежи, желавшей сделать чиновную карьеру, расширяются социальные связи и общественное влияние профессоров. Такие формы публичности, как открытые лекции и диспуты, участие профессоров в работе других образовательных учреждений, членство в научных обществах и Академии наук, преподавание представителям царской семьи, а также ежегодные торжественные акты и другие университетские коммеморации, превращали университет во влиятельного актора на культурной и политической карте имперской столицы. Важное значение имело участие университета в управлении училищами столичного учебного округа, их инспектирование, аккумуляция училищной отчетности, распределение на учительские вакансии выпускников, которые превращались в агентов университета в губернских центрах. В системе бюрократического управления университет приобретал роль эксперта благодаря системе лицензирования знаний чиновников, желавших получить чин VIII класса. Столичный университет вел в данном направлении более масштабную деятельность, чем другие университеты, что отражается в количестве выданных им аттестатов и проведенных испытаний. Участие профессоров в работе ведомственных комиссий, подразделений Министерства народного просвещения, цензурование книг и журналов, издание учебных пособий, в том числе для средней школы, также способствовали упрочению репутации университета.
История санкт-петербургского университета, университетские коммеморации, университетские связи, история повседневности, история петербурга, урбанистика
Короткий адрес: https://sciup.org/147238744
IDR: 147238744
Текст научной статьи Столичный город и университет: формы публичности и система взаимодействия в первой половине XIX века
Условием функционирования университета как учреждения и как сообщества «учащих и учащихся» являлись его постоянные и разнообразные контакты с институтами власти, общественными учреждениями, социальными группами, взаимодействие с городской средой и городским хозяйством. Это взаимодействие характерно как для европейских университетов Средневековья и Нового времени, так и для университетов Российской империи. Российский университет, начиная с XVIII века и учреждения университета при Академии наук и Московского университета, был продуктом культурного трансфера, во многих отношениях повторяя западные прообразы и модели.
В университетских городах Российской империи первой половины XIX века, включая столичный Петербург, система университетских коммуникаций ориентировалась на создание максимально привлекательного для публики образа университета как «святилища учености», то есть экспертного знания, как места образования «бла- городного юношества» для разных родов государственной службы, как источника просвещения в широком смысле.
***
В центре нашего внимания – ранний период истории Петербургского университета, который обрел свое название и соответствующий правовой статус только в 1819 году, на полтора десятилетия позже Казанского и Харьковского университетов. Однако административные и социальные отношения, характеризующие университетскую среду, культурные нормы и практики, присущие университетской корпорации, начали формироваться здесь задолго до 1819 года. Большое значение имел опыт Академического университета XVIII века, профессора которого читали публичные лекции с демонстрацией опытов, издавали научные и учебные сочинения, вместе со студентами участвовали в научных экспедициях, занимались переводами и литературной деятельностью, преподавали в Академической гимназии [4], [6].
В начале XIX века в Санкт-Петербурге действовал Педагогический институт, открытый как отделение предполагаемого университета в 1804 году, а в 1817 году преобразованный в Главный педагогический институт. Это учреждение осуществляло образовательные функции, присущие университетам, а также частично выполняло их миссию по управлению учебным округом на всей его территории, включая отдаленные губернии [2]. Профессора института занимались популяризацией науки в форме публичных лекций, лицензированием чиновников, желающих сдать экзамен на чин, целенаправленно готовили учителей для гимназий, а также уездных училищ (в младшем отделении института). Правомерно рассматривать деятельность названных учреждений как часть истории столичного университета и его корпорации. Этот подход основан на представлении о единстве самого сообщества студентов и профессоров, которое с переменой названия в 1819 году осталось неизменным, а также на единстве архивного комплекса Педагогического института, Главного педагогического института и Петербургского университета, хранящегося ныне в Российском государственном историческом архиве и Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга [1].
Прежде всего хотелось бы обратить внимание на эволюцию самих форм социальной и культурной коммуникации между университетом и столичным городом в первой половине XIX столетия. Эта эволюция прямо связана с измене- ниями в статусе и влиянии самого университета как государственного учреждения, как научной институции и как сообщества интеллектуалов. Можно следующим образом очертить направления расширения публичной деятельности и влияния университета в социально-культурном пространстве Петербурга.
В начале XIX века всем университетам Российской империи была присуща замкнутость как в пространственном, так и в социальном отношении. Немногочисленное сообщество профессоров и студентов даже визуально отделялось от прилегающей территории оградой с караулом на входе [5: 179–185]. Пространственная обособленность Педагогического института и университета с контингентом преимущественно казенных студентов была условием деятельности этих учебных заведений в первые десятилетия XIX века. В инструкции эконому Педагогического института, данной Конференцией профессоров, говорилось:
«Эконом распоряжается тем, чтобы внутри двора у ворот была стража в любое время непрерывно, для чего имеющиеся при институте три сторожа сменялись бы по очереди, чтобы каждый в свое время… караулил у ворот безотлучно и никого из студентов без директорского билета из ворот не выпускал, чтобы в вечернее время при начале сумерек калитка ворот была замкнута, а ключ от оной находился у караульного до 8 часов, а тогда караульный отдает ключ старшему сторожу, который до утра удерживает оной у себя, чтобы караульный в вечернее время обхаживал как большой, так и малый двор, смотрел за спокойствием и тишиной в доме и предостерегал всякую опасность от огня»1.
В этом обособлении можно усмотреть не только проявление полицейских предосторожностей, но и стремление конструировать особый мир «внутри ограды», мир уединенных научных занятий, формирующий «новых людей», будущих педагогов. Риторика Просвещения прослеживается в учредительных документах университета, инструкциях, правилах для студентов, университетских презентациях, важнейшими из которых были торжественные акты.
Что касается пространственных характеристик, то здания университета в то время не были архитектурной доминантой столицы, в отличие от величественных зданий Казанского или Дерптского университетов, выстроенных специально для них в стиле классицизма. Расположенное к Неве боковым фасадом, окруженное в первой половине XIX века торговыми зданиями и пакгаузами, здание Коллегий, в средней части которого Педагогический институт, а затем университет располагались уже в 1806–1822 годах, не имело особенной притягательности для город- ской элиты. Пространственная изоляция Петербургского университета усилилась в связи с его переездом в начале 1820-х годов в комплекс зданий на окраине города, в район Звенигородской улицы, и пребыванием там до окончания перестройки здания Двенадцати коллегий под нужды университета.
«Просвещенный» стиль внутрикорпоративного общения поддерживался в неблагоприятных для него условиях имперской столицы, бюрократической системы управления, соблазнов большого города. Внешнее окружение не должно было отвлекать казенных студентов от занятий, продолжавшихся по 8 и более часов в день. Благодаря закрытости университета и немногочисленности самого сообщества (в Педагогическом институте около 20 профессоров преподавали 100–130 студентам, а в Петербургском университете в 1822–1825 годах студентов было всего около 80) в его стенах сложился так называемый семейный стиль отношений. Он отличался патриархальной опекой со стороны профессоров в отношении студентов, бывших в основной своей массе до середины 1830-х годов выходцами из духовного сословия. В системе этих отношений внешние контакты с городской средой ограничивались как отнимающие время и разрушающие нравы. Выход студентов за ограду был строго регламентирован, нарушение правил обучения и самовольные отлучки строго наказывались.
Длительная пространственная изоляция, а также невысокий в то время общественный статус профессоров, в значительной своей части – приглашенных в Россию иностранцев, не делали университет местом притяжения городской элиты. В этом смысле положение членов «ученого сословия» в имперской столице отличалось от положения и общественной репутации профессоров, например, в губернской Казани2 или маленьком Дерпте в сторону социальной дистанцированности от столичного высшего общества. Профессор и доктор наук, имея лишь чин VII класса, не мог рассчитывать быть включенным в круг высших сановников и быть приближенным ко двору. Однако круг административных и социальных связей столичных профессоров постепенно расширялся благодаря разного рода экспертной деятельности в Военном и Морском министерствах, Горном ведомстве, приглашениям читать лекции в элитных учебных заведениях. Общественный авторитет профессуры рос также благодаря членству ведущих университетских ученых в Российской академии и Академии наук, в литературных обществах, а также сотрудничеству с журналами и цензорской деятельности.
Некоторые профессора приглашались к преподаванию членам царской семьи. Так, в 1810–1830-х годах лучшие профессора Педагогического института, а затем университета (М. А. Балу-гьянский, П. А. Плетнев, И. П. Шульгин) привлекались к преподаванию великим князьям и княжнам, и даже студенты с 1806 года получили разрешение уходить «на кондиции», то есть преподавать в свободное от лекций время детям петербургской знати, включая самих попечителей учебных округов: М. Н. Муравьева, П. А. Строганова, С. С. Уварова. Гораздо позже университетские профессора стали активно привлекаться к обсуждению и разработке университетских уставов и важных законодательных актов по управлению народным просвещением. Едва ли не первый такой опыт имел место в 1819–1823 годах, когда профессорская коллегия получила на рассмотрение проект особого устава для Петербургского университета, составленный попечителем С. С. Уваровым. Профессора высказались по многим пунктам проекта устава критически, как и эксперты Главного правления училищ3, что сделало невозможным его утверждение и осложнило положение университета на несколько лет [9].
Для чиновного мира столицы значение университетского образования определилось в 1809 году. Для реализации указа от 8 августа 1809 года об экзаменах на чин (обязательных для получения VIII класса по Табели о рангах) в Педагогическом институте, а затем в Петербургском университете действовал специальный Комитет испытаний. Он, судя по сохранившимся протоколам заседаний, собирался почти еженедельно, в разном составе, в зависимости от профиля предстоящих экзаменов, для «испытаний» в науках чиновников, в том числе прослушавших профессорские курсы. В системе бюрократических отношений Главный педагогический институт, а позже университет обеспечивали чтение открытых курсов наук для чиновников с последующими экзаменами. Интенсивность экзаменов и количество выданных Комитетом испытаний аттестатов многократно превосходили соответствующую деятельность подобных комитетов в других университетах, хорошо исследованных [10], а значит, и плотность коммуникаций университетских профессоров с чиновным миром Петербурга была велика. Кроме чтения публичных лекций на «внешнем курсе», профессора получали разрешение на приватные занятия. Некоторые из них открывали у себя пансионы и полупансионы, готовя дворянских недорослей к поступлению в университет.
Преодоление университетом пространственной и социальной изоляции происходило постепенно и началось в годы управления учебным округом С. С. Уварова (1811–1821). Все более разнообразными становились способы и формы коммуницирования с городской чиновной, придворной, предпринимательской средой. Место университета на культурной карте Петербурга менялось, став устойчиво значимым к концу 1830-х годов. Это заключалось в многократном увеличении числа студентов, особенно на юридическом факультете. С момента возвращения на Стрелку Васильевского острова в 1838 году возросла публичная активность университета в форме повторяющихся торжественных актов, открытых научных диспутов, других более или менее многолюдных коммеморативных акций (празднования юбилеев, публичных экзаменов студентов, вручения медалей, университетских похорон). Так, по свидетельствам мемуаристов, большое стечение публики отмечалось уже в 1836 году на защите Н. Г. Устряловым диссертации «О возможности прагматической русской истории в нынешнее время», публика присутствовала на магистерских диспутах историка В. М. Ведрова, политэкономов В. С. Порошина и Б. Калиновского, на защите Н. Г. Чернышевским магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). Диспут М. П. Погодина и Н. И. Костомарова «О начале Руси» проходил в «актовой зале» университета в 1860 году как публичные прения с продажей билетов. Зал был полон, и студенческая касса выручила около 2 тыс. рублей.
Среди форм университетских репрезентаций наиболее организованными были именно торжественные акты, ставшие с 1838 года ежегодными и все более ориентированными на публику. Акты включали чтение ректором университета отчета о его состоянии и деятельности, произнесение профессорами публичных речей о научных успехах в своей области, объявление о премиях, присуждаемых профессорам, и о наградах, вручаемых студентам за так называемые медальные сочинения. Актовые речи профессоров интерпретируются исследователями как форма интеллектуальной агитации и самопрезентации «ученого сословия». С. И. Посохов подчеркивал возрастающее общественное значение таких мемориальных практик (университетских юбилеев, торжественных дат, похорон) для провинциального Харькова [7], [8]. И в столичном Петербурге эти акции приобретали большой резонанс, попадали в новостные издания, отражались в переписке и мемуарах современников.
Члены профессорской корпорации как особая группа государственных служащих, разумеется, были представлены и на общегородских публичных церемониях, таких, например, как похороны императоров и лиц императорской фамилии. Например, в марте 1826 года в дни похорон Александра I и в мае 1826 года во время погребения императрицы Елизаветы Алексеевны от университета, как и от других учреждений, делегировались представители в «печальную комиссию» и для участия в шествии, причем число лиц, которые должны были представлять университет, определялось сверху4.
Взаимодействие универсантов с городским окружением выражалось как в мирных повседневных коммуникациях (наем жилья, получение и оказание услуг, торговля, развлечения), так и в конфликтах студентов с конкурентными социальными группами. В качестве таковых можно рассматривать младших офицеров и, реже, воспитанников военно-учебных заведений. Нередкими, в силу территориальной близости, были столкновения студентов с мастеровыми в трактирах и на улицах Васильевского острова. Компактное проживание казеннокоштных студентов и некоторых профессоров в зданиях университета, а своекоштных – в прилегающих кварталах с конца 1830-х годов превращало Васильевский остров в подобие Латинского квартала в Париже, разумеется, с поправкой на меньшую плотность заселения этой части города универсантами. Компактность размещения студентов и профессоров в кварталах, прилегающих к университету, подтверждается городскими адресными книгами и списками студентов с указанием адресов проживания.
Архивы свидетельствуют о повседневном хозяйственном и социальном взаимодействии столичного университета с городскими властями по вопросам очистки и освещения зданий и прилегающей территории, лечения студентов, полицейского наблюдения за ними. Поводы взаимодействия университетской администрации с полицией могли быть самые разные. Документы университетского архива отражают множественные казусы, очерчивающие уровни и поводы этого взаимодействия: о нарушении студентами формы и появлении их в ненадлежащем виде на улицах (наиболее распространенная ситуация), самовольных отлучках, оскорблении высоких чинов, неуплате долга, пьянстве, драках, кражах, самоубийствах, изнасилованиях, скандалах с их участием на улицах города, в театре, в трактирах и иных столкновениях с городскими обывателями.
Университету приходилось взаимодействовать с городскими крупными и мелкими предпринимателями по делам о подрядах на выполнение самых разных работ: поставку дров и провизии, стирку белья, ремонт одежды и обуви казенных студентов, изготовление мебели, ремонтные работы в университетских зданиях и т. д. Расширяющиеся контакты привлекали в университет благотворителей, щедротами которых учреждались целевые и именные стипендии; на средства благотворителей приобретались коллекции книг, минералов, раритетов, приборов для университетских лабораторий.
Со временем для репутации университета и расширения его влияния важнейшее значение приобретают сознательно выстраиваемые контакты – с ведомствами (Военным, Морским, Горным и их учебными заведениями), литературными кругами, периодической печатью: как официальными («Журнал Министерства народного просвещения», «Журнал Министерства юстиции»), так и частными изданиями. Это было важно, поскольку С.-Петербургский университет, в отличие, например, от Казанского, в это время не имел своего периодического издания. Публикационная активность университетских профессоров нарастает также с середины 1830-х годов ввиду ужесточения условий получения ученой степени и кафедры. Издание научных и учебных книг (по 5–10 наименований на каждого профессора) становится нормой. Публикационная активность отвечает возрастающему интересу публики к естественным наукам, истории, другим областям знания. Происходит обретение университетом подобающего ему места на культурной карте Петербурга.
С каждым годом расширялась «экспансия» выпускников вначале Педагогического института, а затем университета в систему училищ столичного округа и за его пределы. Они стремились к распределению на преподавательские места, прежде всего в учебные заведения самой столицы: Царскосельский лицей, Высшее училище, губернская (впоследствии – Первая) гимназия, Горный институт, Кадетский и Пажеский корпуса, Смольный институт благородных девиц, Екатерининский институт и др. Это способствовало утверждению позиций светского европейского знания и авторитета Петербургского университета в системе образования. Со второй половины 1830-х годов, с ростом числа учащихся на юридическом факультете, в канцеляриях и присутственных местах столицы служит немало выпускников университета. Многие из них делают стремительную карьеру, входят в круг высшей имперской бюрократии. Выпускники Восточного разряда делают блестящую дипломатическую карьеру, служат переводчиками, выпускают словари и учебные пособия по восточным языкам.
В течение предреформенных десятилетий происходит упрочение социальной репутации университета, что проявлялось в росте доли студентов-дворян, как правило, учившихся за собственный счет [3]. Так, в 1833 году из 228 студентов 164 были дворянами (с учетом обер-офицерских детей, то есть детей личных дворян). В 1848 году из 545 студентов дворянское происхождение имели 454 учащихся. В 1817–1830 годах действовавший при университете Благородный пансион стал для многих богатых родителей альтернативой «домашнему воспитанию» или устройству отпрысков на военную службу.
Однако растущему научному и социальному влиянию столичного университета долго не соответствовало слабое внимание к его успехам со стороны верховной власти. Известно, что Александр I, чтобы поддержать идею высшей педагогической школы в столице, посетил Педагогический институт в 1807 году. Визит императора был оформлен как демонстрация успехов учебного заведения, а лучшие питомцы его были вскоре отправлены в европейские университеты для подготовки к профессуре. Но, в отличие от старшего брата, Николай I был в университете лишь однажды. Известно о нескольких запланированных, но несостоявшихся его визитах в университет, в том числе в разгар Восточной войны, в августе 1854 года. Зато по его указанию под особым надзором оказывались студенты, лишь заподозренные в политической неблагонадежности, постоянный полицейский надзор осуществлялся за студентами польского происхождения.
С ростом числа студентов их присутствие в городской среде становится заметным даже визуально, благодаря униформе. Постепенно преодолевается замкнутость университета, происходит отход от «семейного стиля» отношений, университет все более подчиняется внешнему администрированию и бюрократизируется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в первой половине XIX века растут общественное влияние и авторитет «ученого сословия», соответственно, меняются и становятся все разнообразнее формы социальной коммуникации универсантов с городским окружением, формы публичной активности и способы репрезентации университета как учреждения и как сообщества. Можно сказать, что к концу 1850-х годов сложилась культура университетских репрезентаций и, соответственно, сформировалось восприятие университетского человека как интеллектуала, в отличие от чиновников других ведомств и представителей других профессий. Этот процесс ускорился на фоне качественных изменений общественной атмосферы в предреформенные годы (1855–1861) и выразился в многократном росте числа студентов, в притоке в аудитории воль- нослушателей, среди которых с 1858 года были и женщины. Неслучайно к 1861 году университет стал центром общественно-политической активности Петербурга, которая выразилась в массовых студенческих волнениях, переходе к публичной деятельности нескольких оппозиционно настроенных профессоров (Н. И. Костомарова, К. Д. Кавелина, В. Д. Спасовича, П. В. Павлова, А. Н. Пыпина и др.). Результатом этих событий стало закрытие Петербургского университета высочайшим указом 20 декабря 1861 года.
Список литературы Столичный город и университет: формы публичности и система взаимодействия в первой половине XIX века
- Жуковская Т. Н. Архив Педагогического института в Санкт-Петербурге (1804-1819): специфика отражения университетской повседневности // Биографии университетских архивов /Под ред. Е. А. Вишленковой, К. А. Ильиной, В. С. Парсамова. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2017. С. 114-164.
- Жуковская Т. Н., Калинина Е. А. Дореформенный университет во главе училищ в первой половине XIX века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Исторические науки и археология. 2016. № 3 (156). С. 17-21.
- Жуковская Т. Н., Казакова К. С. Anima universitatis: студенчество Петербургского университета в первой половине XIX века. М.: Новый хронограф, 2018. 543 с.
- Костина Т. В. Подготовка элит Российской империи в учебных заведениях Академии наук (17261805) // Актуальное прошлое: взаимодействие и баланс интересов Академии наук и Российского государства в XVIII - начале XX в. Очерки истории: В. 2 кн. /Сост. и отв. ред. д. и. н. И. В. Тункина. СПб.: Реноме, 2016. Кн. I. C. 207-302.
- Кулакова И. П. Университетское пространство и его обитатели. Московский университет в историко-культурной среде XVIII века. М., 2006. 334 с.
- Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу: Из истории университетского образования в Петербурге в XVIII - начале XIX в. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 232 с.
- Посохов С. И. Актовые речи профессоров-иностранцев Харьковского университета первой четверти XIX в.: трансфер университетской идеи // Вопросы образования. 2008. № 3. С. 264-274.
- Посохов С. И. Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII - первая половина XIX вв.): Монография. Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. 364 с.
- Пустовойт И. С., Жуковская Т. Н. С. С. Уваров и его нереализованный проект устава Санкт-Петербургского университета 1819 года // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. 2021. Т. 12, вып. 20. С. 81-103.
- Феребов А. Н. Развитие норм указа 6 августа 1809 года в ходе его реализации в первой трети XIX в. // Российская история. 2018. № 6. С. 103-120.