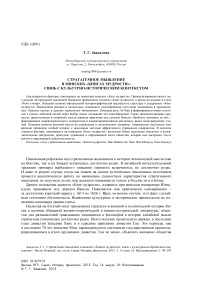Стратагемное мышление в минских "Книгах мудрости": связь с культурно-историческим контекстом
Автор: Завьялова Татьяна Георгиевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Анализируются факторы, повлиявшие на появление минских «Книг мудрости». Проанализированы связи с актуальной литературной традицией. Выявлено формальное сходство «Книг мудрости» и прозы на вэньяне в стиле «Речи о мире». Показано влияние официальной историографической традиции на структуру и содержание «Книг мудрости». Выявленная разница в ценностных основаниях классификации поступков чиновников в традиционных «Записях о речах и деяниях знаменитых чиновников». Показана роль Ли Чжи в формировании новых подходов к оценке действий людей через выбор новых оснований для классификаций. Также проанализированы процессы, происходящие в китайской мысли периода правления под девизом Ваньли. Наиболее значимые из них - формирование мировоззренческого синкретизма и взаимопроникновение различных, ранее конкурирующих учений. Показано влияние военной мысли на социальные и политические доктрины. Гражданские мыслители того времени проявляли особый интерес к несиловым методам эффективного управления конфликтом. В качестве главного фактора, повлиявшего на появление «Книг мудрости», выделены общее ощущение опасности и апокалипсические настроения, присущие думающей и образованной части общества, которая еще настроена что-то менять в окружающей действительности.
Стратагемное мышление, "книги мудрости", ван янмин, ли чжи, фэн мэнлун, чэнь цзылун
Короткий адрес: https://sciup.org/147219266
IDR: 147219266 | УДК: 1(091)
Текст научной статьи Стратагемное мышление в минских "Книгах мудрости": связь с культурно-историческим контекстом
Письменная рефлексия над стратагемным мышлением в истории человеческой мысли (как на Востоке, так и на Западе) встречалась достаточно редко. В китайской интеллектуальной традиции примеры вербального описания стратагем встречаются, но достаточно редко. И даже те редкие случаи, когда мы можем на основе аутентичных письменных источников провести аналитическую работу по выявлению сущностных характеристик стратагемного мышления, не получили до сих пор должного внимания не только в России, но и в Китае.
Данное положение касается «Книг мудрости», изданных при минском императоре Шэнь-цзуне, правившем под девизом Ваньли. Появляются они практически одновременно – за достаточно короткий период с 1614 по 1626 г. Вряд ли можно считать этот факт случайным стечением обстоятельств. Выявлению культурных и исторических предпосылок их появления посвящена данная статья.
Несмотря на богатый опыт применения стратагем в военной и политической истории Китая и наличие обширной военно-теоретической и военно-исторической литературы, объектом для размышлений гражданских чиновников и философов в истории китайской мысли стратагемы становились достаточно редко. Нечто похожее происходило дважды: в последние годы династии Западная Хань и в середине правления династии Тан. Эти периоды, как и последние 70 лет династии Мин, характеризуются системным государственным кризисом, разрешившимся в итоге крушением династии. Тем не менее, объяснять внимание общества
Завьялова Т. Г. Стратагемное мышление в минских «Книгах мудрости»: связь с культурно-историческим контекстом // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 10: Востоковедение. С. 99–107.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 10: Востоковедение
к стратагемам только кризисной ситуацией в государстве вряд ли возможно. Не во всякий кризис появляются трактаты, посвященные стратагемам.
По своим структурно-содержательным особенностям «Книги мудрости» представляют классификации разной сложности. Текст разбит на отдельные тематические разделы, иногда сопровождающиеся комментариями, как в «Сумме мудрости» Фэн Мэнлуна, иногда нет. Самой мелкой структурной единицей текста выступает описание события с участием определенных исторических лиц либо поступка человека.
Если рассматривать особенности минских «Книг мудрости» в связи с культурноисторическим контекстом, можно обнаружить, что их формальные особенности сугубо традиционны. В китайской культуре к тому времени сложилось как минимум два литературных образца, на которые ориентировались авторы «Книг мудрости»: разделы «Жизнеописания» в официальных династийных историях, выделившиеся при династии Сун в отдельный литературно-исторический жанр, и сборники коротких рассказов о людях, созданные по образцу «Новых речей о мире» Лю Ицина.
Жанр структурированной прозы «Речи о мире» (世说体) был особенно популярен при Мин [Чжэнь Цзин, 2011; Цзя Чжаньлинь, 2008]. Среди них есть и такие экзотические сборники рассказов, как «Детские речи о мире» (儿世说) Чжао Юя (赵瑜) в 61 свитке или «Женские речи о мире» (女世说) Ли Цина (李清) в 64 свитках, созданные на рубеже правления династий Мин и Цин. По данным Цзя Чжаньлиня [2008. С. 46], только в годы под девизом Ваньли было издано 21 такое произведение. К тому же жанру относятся «Собрание записей начала жизни в Лунтане» (初潭集) известного минского философа Ли Чжи, материалом для которого послужили и исходный текст «Новых речей о мире», и минский сборник «Собрание записей, классифицированное по разделам, ученого из рода Цзяо» (焦氏类林) , написанный Цзяо Хуном (焦竑) . Ли Чжи по-новому рассортировал описания и добавил комментарии. Эти примеры показывают, насколько пластичным было содержательное наполнение классической формы «Речей о мире».
Как утверждает Чжэнь Цзин [2011. С. 1], от прототипа V в. в этих произведениях осталась только форма, само же содержание и объекты интересов авторов сильно варьировались. Он выделяет три основных признака произведений этого жанра:
-
1) систематизация описания фактов и прецедентов по отраслям и отнесение их к какому-нибудь типу;
-
2) основное содержание «Речей о мире» – описание людей, обязательно включающее оценочные суждения. Основными героями были представители образованных людей, состоявших на государственной службе;
-
3) краткость и лаконичность описания, отсутствие деталей, простота стиля.
По своим литературно-жанровым характеристикам «Книги мудрости», как и «Речи о мире», относятся к структурированной прозе на классическом языке, чтение и понимание которой требовало очень серьезной подготовки и дорогостоящего образования, доступного далеко не каждому. К моменту создания этих произведений в Китае существовала обширная литература на простонародном языке. Сложно сказать о трех других авторах, но в случае с Фэн Мэнлуном выбор изложения на вэньяне был, скорее всего, вполне осознанным. Фэн Мэнлун много времени и усилий отдал сбору, редактированию и изданию произведений народной литературы, так что и опыт, и возможности создавать тексты на простонародном языке у него были, но в данном случае он ими не воспользовался.
Минские «Книги мудрости» полностью сохраняют структурные особенности романов типа «Речи о мире». По своей сути они представляют собой две классификации, вложенные одна в другую. Самый мелкий элемент классификации – стратагема, задуманная или выполненная конкретным лицом, которая в виде текста представляется как история, в основе которой лежит смысловой комплекс «личность + поступок / мысль». Эти истории группируются в более крупные разделы в соответствии с качеством или степенью мудрости, их объединяющим. Основные действующие лица историй в «Книгах мудрости», так же как и в «Речах о мире», – либо правители древности и императоры, либо чиновники. Даже в разделах, посвященных проявлению женского хитроумия, действующие лица – это императрицы, принцессы и сановные дамы, крестьянок среди них нет. Соответственно, «Книги мудрости» мож- но рассматривать и как очень специфическую табель о рангах для правителей и чиновников согласно их заслугам в китайской истории. Подобные тексты создавались еще при династии Хань и новостью для минской исторической мысли не были. Тем не менее можно предположить, что существовавшие до «Книг мудрости» оценочные классификации чиновников не устраивали по каким-то параметрам читающую публику того времени. И полемика разворачивалась именно по поводу критериев оценки действий исторического лица.
Основной источник и образец оценочных классификаций деятельности крупных государственных деятелей и чиновников – раздел «Жизнеописания» в официальных династийных историях. Сравнив структуры официальных жизнеописаний и «Книг мудрости», мы можем обнаружить серьезный мировоззренческий конфликт между последователями официальной конфуцианской доктрины и позицией авторов «Книг». Как правило, в официальные истории помещают жизнеописания ученых-конфуцианцев, а также чиновников, отличавшихся беззаветной преданностью и чувством долга, т. е. при отборе действует исключительно критерий лояльности императору и государству, считавшийся для чиновничества моральным императивом. Начиная с династии Сун в официальных династийных историях появляется раздел «Коварные чиновники » . В «Новой истории династии Тан», которую составляли Оуян Сю и Сун Ци, противопоставление «преданные» и «коварные» чиновники стало новой моделью для оценки деяний государственного деятеля. Развернутый комментарий к этой части жизнеописаний в «Новой истории династии Тан» отсутствует, есть только короткая пометка – «когда дерево начинает гнить, в нем разводятся черви, когда государство клонится к гибели, в нем процветает коварство». Здесь упадок моральных качеств чиновничества является скорее следствием, нежели причиной гибели государства. В официальной «Истории династии Сун» противопоставление преданности и коварства приобретает социально-онтологический статус. В «Предисловии» к этой части жизнеописаний говорится, что когда власть при дворе захватывают мелкие люди, то ситуация соответствует образу темного начала инь ; тогда проявляется их обман и коварные замыслы, а государство идет к гибели. Кстати, этот отрывок показывает крайне негативное отношение к хитроумию и стратагемам, которые названы обманом и коварными планами, интригами.
Официальную «Историю династии Юань» создал в начале правления Мин конфуцианский ученый Сун Лянь (宋濂) , сопроводивший соответствующий раздел жизнеописаний обширным предисловием. Он писал: «С древности все, кто составляли истории, полностью посвящали их добру и злу, чтобы воздать по достоинству и за то, и за другое. Поэтому, когда Конфуций составлял “Весны и осени”, не было таких деяний воров и мятежников, которые бы не были не записаны… В более поздние времена при создании историй в них включались жизнеописания жестоких чиновников, фаворитов, предателей и бунтарей… Но люди коварные и лукавые обладают своими талантами, которые используют для получения богатства и власти, вначале они наносят ущерб стране и вредят народу, в конце – губят себя и свои семьи. Все их деяния записаны в хронологическом порядке сейчас с той же целью, что и ранее в “Веснах и осенях”. Со всей почтительностью автор собрал их, упорядочил и записал в разделе “Жизнеописания коварных чиновников”, чтобы служили зеркалом миру» (Сун Лянь). Можно видеть, что авторы-составители жизнеописаний коварных чиновников не отрицали наличия у них хитроумия, но считали его отрицательной четой именно из-за аморальных целей с точки зрения ортодоксии. Желание личного богатства и власти – это все корыстные личные устремления, которые в чжусианстве относились к низменной части человеческой природы и противопоставлялись «небесному принципу».
Сами по себе «Записи о речах и деяниях известных чиновников», ставшие прототипом для «Книг мудрости», в китайской интеллектуальной традиции являются весьма распространенным жанром. Чжу Си в свое время также составлял подобные сборники – сначала «Записи о речах и деяниях знаменитых чиновников Пяти династий» (五朝名臣言行录), потом – «Записи о речах и деяниях знаменитых чиновников Трех династий» (三朝名臣言行录). В настоящее время это произведение существует под названием «Записи о речах и деяниях знаменитых чиновников, созданные при династии Сун» (宋名臣言行录). Это были сугубо практические руководства для чиновничества, где приводились описания речей и поступков государственных деятелей, признанных образцовыми. Практическую направленность этих сборников отмечал и Чжу Си в предисловии. «Для тех, кто захочет читать современные собрания записей или книги по истории для того, чтобы оценивать следы деяний и речей знаменитых чиновников, оставленные в них, эта книга будет дополнением для обучающихся. Но из-за их разбросанности и разъединенности невозможно увидеть всю картину полностью и целиком, к тому же они смешаны с пустыми рассказами, что также является частым недостатком. Поэтому выбрали из них самое главное и объединили в этих записях, собрали воедино, чтобы облегчить чтение и запоминание» [Чжу Си, 2002. С. 8]. При династии Мин были изданы «Записи о речах и деяниях знаменитых чиновников» Сюй Сяня (徐咸), «Записи о знаменитых чиновниках династий Хань, Тан, Сун» 1 Ли Тинцзи (李廷机), «Записи о делах управления знаменитых чиновников» (掾曹名臣录) Ван Цюна (王琼), «Записи о делах управления знаменитых чиновников» Хуан Шуня (黄训).
Традиция создания сборников описаний деяний знаменитых государственных деятелей на основе исключительно чжусианского идеала чиновника была нарушена Ли Чжи. За 15 лет до первых «Книг мудрости», в 1599 г. появилась его «Сбереженная книга» (藏书) . По форме это произведение также представляло собой сгруппированные по определенным рубрикам короткие исторические рассказы, но по своей исторической концепции резко противоречила официальным взглядам. В названиях рубрик появились определенные новации, одной из которых является раздел «Хитроумные знаменитые чиновники», специально посвященный биографиям известных стратагемщиков. По мнению Ли Чжи, в истории правители больше привлекали на службу людей, отличавшихся «моральной чистотой и чувством долга» и «верностью и почтительностью», нежели тех, кто обладает «мудростью и хитроумием». Но сам Ли Чжи считал, что наибольшую ценность для государя представляют умные и сметливые люди, а верность и почтительность, чувство долга и моральная чистота – качества, дополняющие мудрость и хитроумие. В историческом плане, по мнению Ли Чжи, эти три сорта людей также должны оцениваться соответствующим образом, потому что расцвет и гибель государства, в первую очередь, зависят от умных советников. В пояснениях к главе «Хитроумные знаменитые чиновники» Ли Чжи [1999. С. 505] писал: «Ли-шэн говорит: служилые-ши, обладающие мудростью и хитроумием, не обязательно честны и праведны, но и честные не обязательно обладают мудростью и хитроумием. Это естественный закон. В мире издревле почитают честность и праведность, однако только тогда, когда не используют мудрых и хитроумных чиновников, появляются честные и праведные, только тогда [можно] увидеть и услышать о деяниях, [осуществленных в соответствии] с моральной чистотой и чувством долга» 2. Таким образом, с одной стороны, у авторов минских «Книг мудрости» была в распоряжении традиционная и достаточно толерантная к наполняющему содержанию литературная форма, с другой – уже был пример интерпретации исторических фактов на основе ценностных ориентаций, противоречащих официальной доктрине.
Переходя к анализу места концепций авторов «Книг мудрости» в актуальном историкофилософском контексте, уместно проследить линию преемственности идей Ван Янмина, Ли Чжи и Фэн Мэнлуна, благо материалов для такого исследования более чем достаточно. Но такой подход обладал бы некоторой однобокостью и не позволил бы учитывать все многообразие факторов, которые могли оказать влияние на авторов «Книг мудрости». Кроме того, Ван Янмин резко отрицательно относился к использованию хитрости и коварства. В «Вопросах к Великому учению» говорится: «Были, разумеется, и такие, которые желали сродниться с народом. Но именно незнание (неумение . – А. К. ), как установиться в совершенном добре, и погруженность эгоистических сердец в низость и подлость привели их к утрате этого в хитроумном фокусничестве , коварных замыслах и отсутствии всякой искренности в гуманности, любви, сочувствии и сострадании» [Ван Янмин, {1527}] 3.
В период династии Мин в рамках формирования религиозного и мировоззренческого синкретизма происходило размывание границ трех основных мировоззренческих парадигм ки- тайской культуры. Этот процесс характеризовался не только взаимным заимствованием отдельных концептов и положений (как, например, в философской доктрине Ван Янмина), но и личным доброжелательным вниманием многих философов к произведениям конкурирующей парадигмы.
Буддизмом и даосизмом интересовались не только сторонники радикальных взглядов и социальные аутсайдеры, как, например, Ли Чжи, но и вполне респектабельные с точки зрения отношения к государственной службе конфуцианские мыслители. В качестве характерных примеров можно указать на Ян Шэня и Цзяо Хуна. Ян Шэня (杨慎 , 1488–1559) считают самым выдающимся из «трех талантов династии Мин». Он получил высшую из всех возможных степеней на столичных экзаменах, занимал должность придворного историографа в академии Ханьлинь, позже – императорского лектора по каноническим книгам; написал комментарий к «Чжуан-цзы». Ян Шэню приписывается произведение, считающееся страта-гемным, – «Искусство оставаться в тени» (韬晦术) . Цзяо Хун (焦竑 , 1540–1620) также получил высшую степень ( чжуанъюань ) на столичных экзаменах, был академиком Ханьлинь, занимал должность наставника императорских сыновей. Написал развернутый комментарий к «Даодэ-цзину» (老子翼) и «Чжуан-цзы» (庄子翼) .
Даосскую и конфуцианскую классику вполне доброжелательно комментировали и буддийские монахи. К «четырем великим монахам династии Мин» относят Чжухуна (祩宏) Чжэнькэ (真可) , Дэцина (德清) и Чжисюя (智旭) . Дэцин (1546–1623) написал комментарии к «Даодэ-цзину», «Чжуан-цзы», каноническому конфуцианскому трактату «Учение о середине» (中庸) . Чжисюй (1599–1655) не только комментировал «Книгу перемен», но и написал развернутый комментарий к традиционному конфуцианскому «Четверокнижию».
Перечисленные примеры показывают, что в тот период синкретизм во взглядах был характерной позицией ключевых для китайской литературы и философии фигур. Безусловно, их примеру следовали и многочисленные менее известные литераторы.
Несмотря на такую мировоззренческую толерантность, нельзя сказать, что в минской философии отсутствовали идейные противостояние и борьба. Самые ожесточенные дискуссии велись в рамках каждого из трех основных учений. Ко времени правления Мин как в китайском буддизме, так и в даосизме насчитывались десятки школ, направлений и сект. Похожая ситуация существовала и в конфуцианской традиции. Официальная идеология императорского Китая – чжусианство – сама по себе не представляла собой единого монолитного учения. Со времен династии Сун сформировалось жесткое противостояние сторонников «учения о принципе» (школа Чжу Си и братьев Чэн) и «учения о сердце» (школа Лу Цзююаня и Ван Янмина). Чжусианство подвергалось критике не только в рамках «учения о сердце». Основатель Юнканской школы Чэнь Лян (陈亮, 1143–1194) активно критиковал учение Чжу Си за оторванность от жизни. По его мнению, в мире действует не путь идеального легитимного правителя, а путь гегемона, не справедливость и чувство долга, а стремление к выгоде, а основа жизни общества – не «небесный принцип», а человеческие стремления.
При династии Мин противоборство разных мировоззренческих позиций происходило и в рамках последователей одной школы. Наибольший контраст во взглядах характерен для сторонников янминизма: от жесткой декларации Дунлиньской академии о необходимости активно участвовать в жизни государства и общества до предельного индивидуализма поздних последователей Тайчжоусской школы, переросшего в доктрину «фанатичного следования чань» (狂禅) . В такой сложной и динамично меняющейся идеологической обстановке и появляются «Книги мудрости».
Если учитывать ключевые идеи, актуальные для минской философии, то факт появления «Книг мудрости» именно в последние годы правления династии Мин представляется еще более странным. По содержанию все четыре произведения являются развернутой экспликацией одной из базовых категорий китайской философии – мудрость- чжи (智) . С одной стороны, в истории китайской философии ни одно из учений не отрицало значимости мудрости в человеческой жизни. В конфуцианстве эта категория согласно учению Мэн-цзы является одним из четырех естественных задатков человеческой природы или одним из «пяти посто-янств», сформулированных Дун Чжуншу, в даосизме мудрость – необходимое условие постижения Дао, в философии «школы военных» – одно из базовых свойств полководца.
В буддийских текстах иероглифом чжи « 智 » в зависимости от контекста передаются санскритские термины праджня (Prajñā) или джнана (jñāna). С другой стороны, в минской философии эта категория находится как бы на периферии философского дискурса и не привлекает большого внимания ни одного из ведущих мыслителей.
Если дальше продолжать поиск в русле анализа тенденции смешения идей ранее конкурирующих учений, следует выявить нечто общее не только для линии Ван Янмин – Ли Чжи – Фэн Мэнлун, но и для всего историко-культурного контекста того времени. И такая область есть – это военная теория. Широко известен тот факт, что Ван Янмин комментировал «Семи-книжие» китайского военного канона. Соответствующие заметки вошли в его полное собрание сочинений. Интересовался военной стратегией и Ли Чжи, в 1597 г. написавший «Согласованное с Сунь-цзы» (孙子参同) – комментарий к «Военному искусству Сунь-цзы». Соответствующие разделы есть у всех авторов минских «Книг мудрости». Необходимо отметить, что интересовались они в основном методами ведения психологической войны, маскировки, использования шпионов, т. е. непрямыми военными действиями, позволяющими «победить не сражаясь».
Такое положение дел характерно не только для крупных мыслителей масштаба Ван Ян-мина или Ли Чжи. Как свидетельствует Шэнь Дэфу (沈德符) , в то время «литераторы интересовались военным делом» (文士论兵) , а «военные были искусны в литературе» (武臣好 文) . В его произведении «Главы об узнанном неофициально в годы Ваньли» (万历野获编) есть соответствующие рубрики в разделе «О военном» [Шэнь Дэфу, 1979. С. 434–435]. Но, пожалуй, самой яркой фигурой здесь выступает известный полководец, военный теоретик, поэт и каллиграф Ци Цзигуан (戚继光, 1528–1588). Он участвовал во многих военных компаниях, нанес поражение японским пиратам на суше. Написал два трактата по военной стратегии, но при этом активно контактировал с литераторами и сам писал стихи.
Наиболее заметно тенденция взаимопроникновения военной теории и доктрины гражданского управления проявилась в деятельности «Цзишэ», ассоциации литераторов в Сунцзяне, пров. Цзянсу, видным представителем которой был Чэнь Цзылун (陈子龙) . Члены этой ассоциации написали такие военные произведения, как «Речи школы военных» (兵家言) , «Основное в военных методах Цзо Цюмина» (左氏兵法测要) . После падения династии Мин для правителя Южной Мин Чэнь Цзылун написал «Докладную об организации военного приказа» (兵垣奏议) . Члены этой ассоциации тоже составили «Собрание текстов по управлению миром Великой династии Мин» (皇明经世文编) , где в качестве главного редактора и составителя также выступал Чэнь Цзылун. После падения династии Мин многие члены «Цзишэ» принимали участие в боевых действиях против маньчжуров.
Если последовательно применить тот же принцип поиска общего в мировоззрении и настроениях Ван Янмина, Ли Чжи, Фэн Мэнлуна и Чэнь Цзылуна, то можно выявить еще одну особенность исторического контекста, которая, по всей вероятности, также стала значимым фактором для появления «Книг мудрости»: чувство опасности, ощущение если не конца света, то конца династии совершенно точно. Недовольство правящим режимом, оценка его как морально несостоятельного прослеживается в творчестве всех этих мыслителей, в первую очередь членов «Цзишэ», еще надеявшихся спасти страну.
Как отмечают китайские исследователи, апокалипсические настроения, чувство опасности и желание спасти мир были общими для большинства образованных людей того времени [Чжао Ифэн, 2012]. В качестве более раннего примера можно привести «Докладную записку о страхе и смятении» (忧危疏) , которую подготовил для трона еще один видный литератор, живший при поздней Мин, – Люй Кунь ( 吕坤 , 1536–1618). Он писал: «Ваш слуга слышал о том, что признаки смуты узнают у неба, практические действия по устранению смуты приходят от людей. Украдкой наблюдаю за погодой – она с самого нового года сумрачная, солнце тусклое, гадания говорят о признаках смуты. Сейчас состояние Поднебесной таково, что явление смуты уже обрело форму, но еще не пришло в действие. У людей в Поднебесной смута уже воцарилась в сердцах, но мятежники еще свирепствуют. Сегодняшнее правление дает повод для смуты и толкает к ней, помогает смутьянам и провоцирует их к действиям» (цит. по: [Чжао Ифэн, 2012. С. 20]).
Следы подобных настроений можно найти не только в текстах, написанных представителями чиновничества. Даже девицы легкого поведения из зеленых теремов понимали, что в стране надо что-то менять. В качестве примера можно привести историю одной из «восьми красоток с реки Цинхуай» – Лю Жуши ( 柳如是 ), которая, кстати, была знакома и с Чэнь Цзылуном, и с членами «Общества Возрождения», и с членами академии Дунлинь. После падения династии Мин она помогла одному из руководителей Дунлинь Цянь Цяньи ( 钱谦益 ) занять должность главы департамента церемониалов при Южной Мин. Поняв, что Южная Мин долго не продержится, вместе со своим протеже покончила жизнь самоубийством.
Таким образом, в годы правления под девизом Ваньли сложился комплекс факторов, обусловивших интерес к рефлексии над стратагемным мышлением. К ним относится освоение литературной формы, удобной для структуризации материала и толерантной к содержанию; мировоззренческий синкретизм и взаимопроникновение разных, ранее конкурирующих учений; наличие военной теории, в арсенале которой есть методы эффективного управления конфликтом, пригодные для гражданского использования. Но как самый главный фактор действует общее ощущение опасности и апокалипсические настроения, присущие думающей и образованной части общества, которая еще настроена что-то изменить в окружающем мире, но, как показывает история династии Мин, обычно не успевает.
Список литературы Стратагемное мышление в минских "Книгах мудрости": связь с культурно-историческим контекстом
- Дасюэ вэнь цзиньчжу цзиньи // Цзинь сы лу цзиньчжу цзиньи; Дасюэ вэнь цзиньчжу цзиньи[大学问今注今译//近思录今注今译;大学问今注今译/古清美注译。台北:台湾商务]. Современный перевод и современный комментарий «Вопросов к “Великому учению”» // Современный перевод и современный комментарий «Записей размышлений о близком»; Современный перевод и современный комментарий «Вопросов к “Великому учению”» / Пер. и коммент. Гу Цинмэй. Тайбэй: Тайваньшаньу, 2000. С. 1-28 (раздельн. пагинация).
- Ли Чжи. Чжимоу минчэнь чжуань[李贽。智谋名臣转]. Жизнеописания известных хитроумных чиновников // Юй Линь. Цзинши цюаньмоу [俞琳。经世奇谋。郑州:中州古籍出版社]. Чудесные стратагемы управления миром. Чжэнчжоу: Чжунчжоу гуцзи чубаньшэ, 1999. С. 505-816.
- Чжао Ифэн. Ваньмин шидафу цзюши цинхуай[赵轶峰。晚明士大夫的救世情怀//吉林大学社会科学学报]. Стремление спасти мир у чиновничества поздней Мин // Цзилинь дасюэ шэхуэй кэсюэ сюэбао. 2012. № 5. С. 19-29.
- Чжэнь Цзин. Минцин шици сяньцунь «шишоти» сяошо гайкуан[甄静。明清时期现存"世说体"小说概况//河北北方学院学报]. Общий обзор сохранившихся до наших дней произведений в стиле «Речи о мире», созданных при династиях Мин и Цин // Хэбэй бэйфан сюэюань сюэбао. 2011. № 2. С. 1-4.
- Чжу Си. Бачао минчэнь яньсинлу[朱熹。八朝名臣言行录]. Записи о речах и деяниях знаменитых чиновников восьми династий // Чжуцзы цюаньшу[朱子全书]. Полн. собр. соч.: в 27 т. Шанхай: шанхай гуцзи чубаньшэ, 2002. Т. 12. С. 1-909.
- Цзя Чжаньлинь. Лунь ваньмин шишоти[贾占林。论晚明世说体 //湖南工业大学学报]. Рассуждение о стиле «Речи о мире» поздней Мин // Хунань гунъе дасюэ сюэбао. 2008. № 3. С. 45-48.
- Шэнь Дэфу. Ваньли ехо пянь[沈德符。万历野获编]. Главы об узнанном неофициально в годы Ваньли. Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1979. 972 с. Список интернет-источников Ван Янмин. Вопросы к «Великому учению» [1527 г.] / Пер. с кит. и коммент. А. И. Кобзева // Сайт «Синология.ру». URL: http://www.synologia.ru/a/Ван Янмин. Вопросы% 20к «Великому учению» [1527 г.] (дата обращения 27.09.2015).
- Сун Лянь. Юань ши: Лечжуань ди цзюши эр [宋濂。元史:列传第九十二 ]. Официальная история династии Юань: Раздел «Ле чжуань», гл. 92 // Сайт компании «Госюэ», б. г. URL: http://www.guoxue.com/shibu/24shi/yuanshi/ yuas_205.htm (дата обращения 20.08.2015).