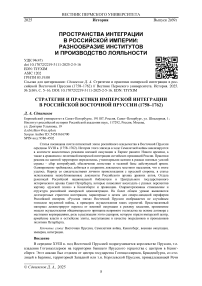Стратегии и практики имперской интеграции в российской Восточной Пруссии (1758‒1762)
Автор: Сдвижков Д.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Пространства интеграции в Российской империи: разнообразие институтов и производство лояльности
Статья в выпуске: 2 (69), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена почти пятилетней эпохе российского владычества в Восточной Пруссии середины XVIII в. (1758–1762). История этого эпизода в ходе Семилетней войны анализируется в контексте аналогичных режимов военной оккупации в Европе раннего Нового времени, а также в сравнении с политикой имперской интеграции остзейских провинций России. Практики режима на занятой территории определялись утилитарными целями в рамках военных усилий страны – сбор контрибуций, обеспечение логистики и тыловой базы действующей армии. Одновременно требовалось добиться и сохранить лояльность местного населения, что в итоге удалось. Наряду со свидетельствами личного происхождения с прусской стороны, в статье использованы неопубликованные документы Российского архива древних актов, Отдела рукописей Российской национальной библиотеки и Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, которые позволяют воссоздать с разных перспектив картину «русской эпохи» в Кенигсберге и провинции. Охарактеризованы становление и структура российской имперской администрации. На более общем уровне выявляются долгосрочные стратегии интеграции, характерные в целом для северо-западной периферии Российской империи. «Русская эпоха» Восточной Пруссии изображается не случайным эпизодом неудачной войны, а примером осуществления таких стратегий. Представленный материал демонстрирует переход от военной оккупации к режиму владения, применение модели осуществления общеимперского принципа непрямого господства на основе договора с местными корпорациями, роль в реализации этого сценария, которую играли имперский центр, армейские власти и остзейские элиты, выступавшие в качестве посредников и проводников политики Петербурга.
Восточная Пруссия, Семилетняя война, Кенигсберг, военная оккупация, империя, интеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/147250806
IDR: 147250806 | УДК: 94(47) | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-2-5-16
Текст научной статьи Стратегии и практики имперской интеграции в российской Восточной Пруссии (1758‒1762)
В середине XVIII в. под Восточной Пруссией подразумевается королевство Пруссия, т.е. владения Гогенцоллернов на территории бывшего Прусского герцогства с центром в Кенигсберге. Этот анклав был отделен от центра государства Гогенцоллернов, Бранденбурга, со столицей в Берлине, территорией Западной или т.н. Королевской Пруссии, принадлежавшей Речи
Посполитой вплоть до ее первого раздела в 1772 г. Лишь после этого провинция вокруг Кенигсберга стала собственно Восточной Пруссией . Таким образом, этот термин, употребляемый далее в статье для удобства, для нашей эпохи анахронизм, а территория, им охватываемая, примерно вдвое больше современной Калининградской области за счет юго-западной части, которая находится ныне в составе Польши.
В ходе Семилетней войны (1756‒1763) Восточная Пруссия стала первым театром военных действий для Российской императорской армии. Война началась здесь утром 19 июня 1757 г. с обстрела и последующего взятия прусской крепости Мемель (Клайпеды), а закончилась с выводом российских войск из Пруссии осенью 1762 г. как результат подписания Петром III сепаратного Петербургского мира, после некоторых колебаний подтвержденного Екатериной II. Российское владычество по всей провинции установилось в январе 1758 г. и продолжалось по август 1762 г., т.е. четыре с половиной года1.
В отличие от существующей немецкой и российской историографии, мы предлагаем взглянуть на краткую историю русской Восточной Пруссии не как на уникальное событие Семилетней войны, а с точки зрения долгосрочных процессов, характеризующих стратегии и практики интеграции Российской империи. Рассмотрев, какое место восточнопрусский эпизод имел в истории Российской империи и Европы XVIII в. в целом, остановимся на его этапах – завоевания, утверждения господства и первых шагов к интеграции территории. В сравнительном контексте выявляются параллели и различия с интеграцией других западных территорий Российской империи, прежде всего остзейских провинций Эстляндии и Лифляндии (или, как их именовали в русских документах эпохи на немецкий манер, Остзее).
При всех поворотах и переменах планов России на Восточную Пруссию они не были случайным эпизодом [ Анисимов , 2014]. В основе лежала долгосрочная стратегия обеспечения безопасности в предполье империи, проводившаяся канцлером (1744–1758) А. П. Бестужевым-Рюминым. Критически важным представлялось ослабление быстро набиравшей при воинственном Фридрихе II силу Пруссии и сохранение российского влияния в Речи Посполитой. Накануне «Прусской войны», которой суждено было стать Семилетней, в Петербурге формулировали ее цели следующим образом: «Ослабя короля прусского, сделать его для здешней стороны нестрашным и незаботным; венский двор возвращением ему Силезии усиля, сделать союз его противу турок больше важным и действительным; одолжа Польшу доставлением ей Королевской Пруссии [т. е. Восточной. – Д. С. ], во взаимство получить не токмо Курляндию, но и с польской стороны такое границ окружение, которым бы не токмо нынешние беспрестанные хлопоты и беспокойства пресеклись, но может быть и способ достался бы коммерцию Балтийского моря с Черным соединить и чрез то почти всю левантскую коммерцию в здешних руках иметь» (СИРИО, 1912, т. 136, с. 33). Мысль об ослаблении Пруссии и размене Восточной Пруссии на Курляндию была давней идеей А. П. Бестужева-Рюмина. Тогда как за стратегией поощрения торговли и авантюрными планами возродить «путь из варяг в греки» угадывается прожектерство графа П. И. Шувалова. В целом же, отвлекаясь от личностей, очевидна историческая преемственность с петровской стратегией расширения присутствия на Балтике с оглядкой на южные рубежи.
Прямое влияние на эту стратегию оказывал ход Семилетней войны: аппетиты росли, как полагается, во время еды. Первоначально Россия участвовала в войне на правах «помощной» силы союзной Австрии, но со все более весомыми успехами своей армии на полях сражений и наоборот, поражениями бывшего фаворита в военном отношении, Франции, Россия не только приобрела статус полноправного участника войны, но стала державой, от которой зависел исход сражений на континенте. Согласие на территориальные приобретения, которым Россия заручилась у союзников-австрийцев еще в начале войны, стало непременным условием при подготовке России к планируемому в 1761 г. Аугсбургскому мирному конгрессу. В целом Российская империя держала Пруссию как ценный актив. Схожим образом остзейские провинции де-факто были присоединены к России в 1710 г., но де-юре пребывали в промежуточном состоянии все последующее десятилетие. Ништадтский мир (1721), которым определился окончательный статус остзейских провинций, отражал «реалии на земле» и изменившийся баланс сил.
Российская императорская армия занимала провинцию дважды. В первой для русских кампании 1757 года под командованием фельдмаршала С. Ф. Апраксина после одержанной над пруссаками победы в битве при Гросс-Егерсдорфе 19(30) августа 1757 г. армию отделяли от Кенигсберга два‒три перехода и слабый заслон прусского корпуса фельдмаршала И. фон Левальда. Однако случилось «чудо на Прегеле»: было принято решение об отступлении, превратившемся в хаос. Армия оказалась в удалении от баз снабжения, с населением, озлобленным на так называемые «эксцессы» иррегулярных войск. Жители уходили в леса, и оттуда «прусские мужики» вели самую настоящую партизанскую войну.
В октябре 1757 г. Апраксин был отозван из армии и через год умер под следствием, командование перешло к генерал-аншефу В. В. Фермору из шотландского рода на русской службе с XVII в., осевшего в Лифляндии. Прусский король Фридрих II, уверенный в том, что российская армия не скоро будет в состоянии выступить в поход, приказал корпусу Левальда оставить Восточную Пруссию, так как войска требовались для прикрытия основной территории его королевства. Однако энергичный Фермор, имевший в послужном списке не только более солидный военный опыт, но и успешную организацию сложных строительных работ по придворному ведомству, сумел в короткие сроки мобилизовать войска и подготовить их к зимней кампании. Вновь перейдя границы, уже через несколько дней, 11(22) января 1758 г. российская армия во главе с Фермором под колокольный звон и литавры с городских башен торжественно вступила в Кенигсберг.
«Русская эпоха»
Общие условия режима российской власти на завоеванных территориях предварительно формулировались в высочайшем манифесте от 31.12.1757 г. ( Масловский , 1888, с. 19). Затем, как и в Остзее, правовой режим оговаривался в капитуляции, зафиксированной на встрече Фермора с кенигсбергской делегацией накануне сдачи города в замке Каймен. Главные пункты касались сохранения городских вольностей и привилегий, неприкосновенности частной собственности, свободы вероисповедания и местной системы администрации. Как и остзейские капитуляции, кенигсбергская была конфирмована верховной властью2.
Субъектами с прусской стороны, как и в Остзее, выступали корпорации ( Stände ) – дворянская (рыцарская), городская и университетская. Административные и юридические коллегии работали по прежним правилам и законам, с прежними служащими, только с назначенными для надзора российскими чинами. Управление местными властями, до того сосредоточенное в так называемом «Государственном министерстве» ( Staatsministerium ) Пруссии взял на себя назначаемый из Петербурга «губернатор королевства Пруссии». При нем работала двуязычная канцелярия. Губернатору были даны в качестве помощников полковник П. П. Яковлев, генерал-провиантмейстер С. Ф. Волконский, чиновники Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел Иван Бауманн и Петр Вестфален, а также пруссак Маттиас Бальтазар Николовиус, который в должности обер-секретаря фактически координировал всю административную работу ( Baczko , 1819, S. 15; ПСЗРИ, 1830, № 10833).
В Пруссии, как в Остзее в переходный период или позднее в генерал-губернаторствах Наполеона, сложилась «военно-гражданская администрация»: генерал-губернатор В. В. Фер-мор фактически был в действующей армии, военные власти на местах в крупных городах и крепостях представляли коменданты. Делами управлял гражданский губернатор, но в его ведении были и военные гарнизоны провинции. В 1758–1760 гг. им был курляндец Н. А. Корф, затем этот пост занимали российские генералы В. И. Суворов, отец будущего фельдмаршала, П. И. Панин и Ф. М. Воейков [ Кретинин , 2018, с. 66–93].
Текущие дела рассматривались на местах; центральной институции, такой как Юстиц-коллегия лифляндских и эстляндских дел или Малороссийская, не учреждалось. Губернаторы провинции, как и военачальники Заграничной армии, посылали реляции и сносились по всем важным вопросам с центральным органом, специально созданным для координации военных усилий империи – Конференцией при Высочайшем дворе, а также с Правительствующим Сенатом.
Во главе двух военных и удельных камер, управлявших провинциями внутри Пруссии, стояли президенты пруссаки и надзорные директора ‒ российские подданые (Hasenkamp, 1866, p. 282). Надзор за финансами осуществлял российский обер-штер-комиссар, администрированием по провиантской части занимался генерал-провиантмейстер. Действовали прусские законы; верховной юридической инстанцией вместо обер-трибунала в Берлине стал высший апелляционный суд в Кенигсберге, президент которого назначался императрицей и получал российское жалованье, его решения визировал юридический факультет Кенигсбергского университета. Это не касалось политических дел, по которым российские коменданты на местах по команде рапортовали коменданту в Кенигсберге, тот докладывал губернатору, а губернатор при необходимости сносился с Тайной канцелярией в Петербурге. Уголовные дела между российскими военнослужащими и гражданскими лицами, во всяком случае в пределах столицы провинции, подлежали в соответствии с Ратушным регламентом Кенигсберга совместному судопроизводству (iudicium mixtum) с представителями от городского магистрата и военных (Hagen, 1818, p. 538).
В управлении провинцией критически важной была роль российских «немцев» ‒ остзейцев, курляндцев, в целом немецкоязычных. Непосредственно при завоевании «немецкие» офицеры играли роль главных посредников в контактах с местным населением. К лояльности остзейцев к единоверцам у российского центра были вопросы, но в общем балансе их посредническая роль оказывалась важнее. Для пруссаков Остзее служило реальным свидетельством возможности автономного и гарантирующего свободу вероисповедания положения в Российской империи вопреки прусской пропаганде о гонениях на протестантов.
Как и в остзейских провинциях, задачей российских властей стал сбор, а в перспективе упорядочение действующих в королевстве нормативно-правовых актов. Местные элиты активно защищали свои права и выторговывали преференции по военным обязательствам, которыми их стремился обложить центр. Коллективные петиции направлялись от имени высших прусских чиновников, оставшихся у местной власти, российскому губернатору или прямо в Петербург – в Конференцию при Высочайшем дворе и пришедшему на смену А. П. Бестужеву-Рюмину в 1758 г. канцлеру М. И. Воронцову. За содействие в снижении контрибуции провинции Воронцову был выплачен вексель на приличную сумму 6000 дукатов, который , впрочем, канцлер вернул (АКВ, 1870–1895, кн. 34, c. 172–177). Высшей инстанцией для апелляции была императрица, жители Восточной Пруссии подавали ей личные и коллективные челобитные. Также следуя за практикой остзейских элит, в имперский центр посылали делегации. Летом 1759 г. их направили отдельно от дворян и купечества; на следующий 1760 г. пруссаки предложили выбрать постоянных депутатов для сношений с центром. Еще через год со сменой губернатора на менее покладистого В. И. Суворова пруссаки жаловались на отсутствие прямой связи с центром без посредничества губернатора как нарушение «законов и обычаев страны» (Пруссии), по которым «каждое учреждение или частное лицо […] считает себя в праве обращаться к своей Монархине, в случае нарушения его прав губернатором» ( Блинов , Сухоцкий , 1915, с. 253, 261) [ Кретинин , 2018, c. 80].
Режим российского господства сохранял чрезвычайный характер из-за продолжавшейся войны. Пруссия использовалась как перевалочная база с гаванями для транзита грузов, движения маршевых батальонов, обеспечения тыла операционной базы на Нижней Висле, где были госпитали, магазины и зимние квартиры Заграничной армии. Чрезвычайные потребности накладывали соответствующие обязательства – расквартирование проходивших войск, обеспечение логистики, экстраординарные контрибуции. Все это также повторяло развитие событий в Остзее, где на первом плане долго были фискальные и военно-стратегические цели. В целом российский режим в Восточной Пруссии укладывался в правовые и административные рамки военной оккупации ( occupatio bellica ) Раннего Нового времени [ Steiger , 2006], решавшей задачи военной эффективности – довольствия армий в неприятельских землях в ходе «далеких» имперских войн [ Сдвижков , 2024, c. 137]. В то же время с отдалением непосредственного театра военных действий перспективой затягивания войны и неопределенным статусом Восточной Пруссии встала задача cтабилизации господства.
Требовалось обеспечить лояльность населения в сочетании мер ограничительноправовых и стимулирующих. К первым относилась прежде всего присяга населения. В местностях, захваченных российской армией в 1757 г., присягу уже проводили. Ей подлежали все жители мужского пола старше 15 лет, как немецкоговорящие, так и литовцы, по конфессиям в церквях. В следующем году присягу распространили на всю территорию Восточной Пруссии. Причем в Кенигсберге ее устроили ровно в день рождения прусского короля 24 января 1758 г. Подобно присяге в Риге 1710 г., ее принимали в замковой церкви по корпорациям. Хотя в капитуляции Кенигсберга, в отличие от остзейских, пункт о присяге отсутствовал, никаких протестов и случаев отказа зафиксировано не было.
В Остзее присяга закрепляла, что «лифляндцы и других городов [жители], бывших короны Швецкой, взятых чрез оружие российское – те могут назватися росийскими подданными» [ Анисимов , 2021, c. 20]. Однако в практике occupatio bellica Российской империи принятие присяги могло служить только для обеспечения лояльности, не предполагая вечного подданства: так было, например с Финляндией в русско-шведской войне 1741‒1743 гг. [ Анисимов , 2014, c. 153]. Характерно, что в случае Восточной Пруссии первоначальный текст, дословно переведенный в 1757 г. на немецкий язык, был при вторичной присяге изменен. Из формулы русского клятвенного обещания «верным, добрым и послушным подданным быть» слова «подданным» оказалось вычеркнуто ( Hasenkamp , 1866, S. 273; Масловский , 1888, с. 27). Таким образом, жители провинции, в том числе Иммануил Кант вместе с академической корпорацией, формально подписывали присягу на верность, но не на подданство. Военнопленные из Восточной Пруссии не были обязаны перейти служить в российскую службу, как это практиковалось в Северную войну с остзейцами. Завоеванная область не вошла в титулатуру императрицы и именовалась в официальных документах «Королевство Пруссия». Хотя оно уже не считалось частью Прусского государства, но и не причислялось к «нашим провинциям», застыв в промежуточном статусе.
Вслед за присягой, как и в Остзее, везде – на печатях, аптеках, книжных и прочих лавках – прежняя государственная символика, в данном случае прусский одноглавый орел, немедленно заменялась на двуглавого. Этой мере придавалось большое значение, губернатор лично следил за ее выполнением. Кенигсберг официально стал именоваться «российско-императорский город»; «Кенигсбергская газета» ( Königsbergische Staats- Kriegs- und Friedens-Zeitung ) перестала быть «королевской» и также получила двуглавого орла на шапку. Среди населения появился обычай вырезать имперский герб и вешать его на входную дверь, чтобы показать свою лояльность. У купечества и дворян тем же целям служили портреты российских царствующих особ в гостиных. Все официальные прошения следовало теперь подавать на имя императрицы всероссийской.
Партизанская война 1757 г. и большое количество разошедшегося по рукам оружия заставила российские власти прибегнуть к ограничительным мерам – конфисковать все огнестрельное оружие в Пруссии и запретить его продажу и хранение, в противном случае устраивались обыски. По усмотрению властей могли закрывать городские заставы; комендантского часа не вводили, однако требовали ходить и ездить ночью с фонарем. Наиболее серьезными были обвинения в шпионаже и подрывной деятельности в пользу Берлина. Самым громким случаем стал раскрытый в 1759 г. заговор в крепости Пиллау во главе с пленным прусским капитаном Людвигом Францем Шамбо. В результате был сослан в Сибирь в том числе обвиненный в соучастии и связях с Берлином почтмейстер Иоганн Вагнер, подробно описавший свои злоключения (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 224; Карнович , 1884). Однако в целом политические дела по пруссакам показывают вполне благоприятную для российских властей картину. Массовых сговоров и вооруженных столкновений после 1757 г. не фиксируется; вопреки позднейшим немецким национальногероическим нарративам, местное население вполне активно взаимодействовало с российской администрацией. Об этом свидетельствуют доносы – например, прихожан на своих священников и в целом местных друг на друга. Слуга-лифляндец, ссылаясь на природное российское подданство, даже воспользовался формулой «Слово и дело!», обвинив в оскорблении монархини своего господина барона цу Эйленбурга (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2015; Ф. 25. Оп. 1. Д. 371).
Цензурный надзор российские власти изъяли из ведомства университета, оставив ему только научные труды. Губернатор лично контролировал местную прессу: «Кенигсбергская газета» стала выходить, говоря современным языком, с передовицами пропагандистского содержания и печатала русские бюллетени о сражениях. Для опровержения «неблагоприятных известий о русской армии» был назначен специальный сочинитель. Плотно контролировалась почтовая корреспонденция – от отправителей за границу требовали не запечатывать письма.
При всем том, однако, почтовое сношение с Берлином согласно пунктам капитуляции продолжало работать. Губернатор запрашивал Петербург, что делать с доступом к вражеским газетам, но никакого запрета не последовало (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 10. Л. 3; Д. 304).
Помимо цензуры, контроль за общественным мнением осуществлялся через церковь: уже в следующее воскресенье после вступления в Кенигсберг по указанию российских властей во всех церквях устроили «праздненство восстановленного покоя» с пением Te Deum и колокольным звоном. Священников обязали оглашать с кафедры российские распоряжения и манифесты, на них лежала и основная организация приведения к присяге на местах. На молитвах теперь поминалось российское августейшее семейство, светские праздники отмечались по российскому календарю. Главный праздник империи 30 августа (10 сентября) – перенесение мощей св. Александра Невского – обязали отмечать и протестантских, и католических священников ( Hasenkamp , 1866, S. 498).
Наряду с избирательным применением Knut режим российского господства использовал разного формата пряники и убеждение. Пропаганда, обязательная сопроводительная часть войн XVIII в., адресовалась российской властью, помимо общеевропейской образованной общественности и собственных поданных, также населению завоеванных территорий. Если в Северную войну эмиссар Лёвенвольде выпускал немецкоязычные листовки для остзейцев [Baltische Länder, 1994, p. 267], то перед началом, а затем в ходе первой кампании 1757 г. в Пруссии распространялись переведенные на немецкий российские печатные манифесты. Они обосновывали справедливость вторжения («диверсии») войск в Пруссию как вспомогательной ответной меры на беззакония Фридриха, обещали лояльность по отношению к мирному населению и приглашали тех, кто был принужден к прусской службе с ее «притеснениями, насилием, жестокостью и неслыханной строгостью», переселиться в Россию, обещая субсидию в 15 рублей (Manifeste…, 1757). Однако после катастрофической кампании 1757 г. с «эксцессами» последовала волна пропрусской пропаганды, которая эксплуатировала традиционные образы московитов как религиозных фанатиков-варваров. Перед вторичным вступлением в Пруссию в высочайшем манифесте, изданном по-немецки, подчеркивалось: «С большим слышали Мы прискорбьем и негодованьем, что при испражнении войсками Нашими [прусских] земель некоторые места выжжены и опустошены […] Сделанные в минувшую кампанию разорения были совсем против Нашего желания» ( Масловский , 1888, с. 19).
Товарищ губернатора Кенигсберга полковник П. П. Яковлев отмечал в своей записке, что население провинции, несмотря на собранные перед вступлением русских экстраординарные налоги и рекрутов, сохраняло лояльность своему бывшему королю3. В то же время мемуар самого губернатора Н. А. Корфа рисовал более сложную картину. Выгодополучателями прежней власти и прусскими лоялистами Корф признавал только средний слой. Он рекомендовал опереться на духовенство, которым Фридрих определил «весьма умеренные доходы», и прежде всего дворян, которые «прежним прусским владением весьма недовольны» из-за нарушения древних привилегий, высоких налогов, условий аренды казенных амтов и предпочтения королем «гражданских чинов». Корф ссылался на то, что разногласия с Фридрихом II начались еще с присяги провинции в 1740 г., когда король отказал в требовании ландтагом расширения привилегий сословий и предоставления гарантий (ассекурации). Следствием стал долговременный конфликт: король больше ни разу не созвал строптивый ландтаг, постоянно обвинял местное дворянство в нежелании служить и подозревал в нелояльности к Берлину. «Русская эпоха» с присягой императрице и отпадением провинции стала только продолжением и углублением этого конфликта. Крестьяне, согласно Корфу, освобожденные при российском владычестве от кантональной системы набора в армию с унизительной необходимостью получать разрешение офицера даже на заключение брака, «как от общего слуха признать можно […] в прусское подданство возвратиться не рады» (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 10. Л. 18‒20).
Петербург дважды (в сентябре 1759 г. и в декабре 1760 г.) пытался организовать рекрутский набор в провинции, направив новонабранных из опасений дезертирства не «на фронт», а в отдаленные внутренние гарнизоны. Это вписывалось в желание центра распространить хотя бы часть тягостей продолжавшейся войны на периферии, включая Малороссию и Остзее. Однако, как в случае уже присоединенных территорий, так и в Восточной Пруссии эти планы сталкивались с противодействием на местах. Губернаторы в Кенигсберге – и Корф, и Суворов – решительно сопротивлялись, ссылаясь на ущерб лояльности (жители снова разбегутся, как в 1757 г.). В итоге лишь весной 1761 г. было решено заменить рекрутский набор в провинции денежным как эквивалент третьей по счету военной контрибуции. Начался обычный торг по цифрам с отсылкой делегаций в Петербург, который довели до смерти императрицы Елизаветы и перемены политического курса. С разной степенью успеха в провинции пытались лишь вербовать волонтеров – прежде всего в кавалерию, так как провинция славилась своими лошадьми (Жизнь и приключения Андрея Болотова…, 2022, с. 156). Лояльность масс центру подкреплялась и тем, что крестьянам, пострадавшим от «эксцессов» в 1757 г., давались субсидии, для посевной ссужалось зерно из казенных магазинов, а недостаточный овес даже ввозился из России (Hagen, 1818, S. 540).
Традиционным элитам же, как полувеком ранее остзейцам, открывалась дорога для ревизии своего статуса, ущемленного абсолютистскими централизаторскими тенденциями Стокгольма и Берлина. В общеевропейской практике право завоевания не применялось для ограничения политического участия местных сословий и чиновников из краткосрочных утилитарных соображений – для эффективного управления и сбора денег [ Carl , 2021, S. 176]. Помимо этого, Россия, как и Остзее, была готова использовать корпоративные традиции в своей стратегии долгосрочной интеграции. Причем это касалось управления всей империей: встраивание в ее организм и адаптация корпоративных моделей для основной территории, начавшиеся при Петре I, послужили прообразом политики превращения сословий в корпорации при Екатерине II.
Для освоения территории и использования Пруссии как ресурсной базы империи ее надо было описать. Начало было положено еще при военных действиях, когда территории наносились на карты военными топографами по мере продвижения армии (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. № 176). После завоевания начались работы по составлению карты побережья, необходимого для подвоза к армии, и всей провинции [ Кретинин , 2023]. Сразу вслед за завоеванием полковник П. П. Яковлев должен был составить фактически краткое статистическое описание новой территории. Это также входило в уже выработанный «протокол» интеграции для Остзее, где «русская администрация на протяжении нескольких лет по разным каналам целенаправленно собирала информацию буквально обо всех сторонах жизни новообретенных территорий» [ Редин , 2022, c. 9; Carl , 2021, S. 174], и в целом в европейские практики occupatio bellica . Владевший немецким и французским Яковлев, которому для сношения с конфидентами выдавалось 500 казенных червонцев, должен был, помимо настроений в провинции, оценить ресурсную и налоговую базу для государственных повинностей. Эти сведения впоследствии постоянно дополнялись и расширялись российскими губернаторами, разросшись в пухлый том статистики ( Масловский , 1888, с. 27–49).
Собранные сведения стали основой для исчисления контрибуций. Объявленную в конце марта 1758 г. контрибуцию в 1 млн рейхсталеров в течение положенных шести месяцев не собрали, снизив ее под давлением с мест до той же суммы в менее полновесных прусских талерах, но и по ней к весне следующего года оставались недоимки. Тем не менее в мае 1759 г. была объявлена следующая контрибуция – 1 млн рейхсталеров с городов и 1 млн прусских талеров с сельской округи ( Hagen , 1818, p. 540, 544). После отправки депутатов в Петербург при посредничестве канцлера Воронцова сумму понизили для городов на треть, а с сельской округи сняли полностью, засчитав поставки фуража и телег. Следующий полумиллионный денежный сбор в зачет рекрутов, как упоминалось, не удалось реализовать вовсе.
«Настоящая весьма иждивительная война» заставляла имперский центр думать и о пополнении бюджета в рамках меркантилистских мер – развития внешней («государственной») коммерции, оптимизации денежного обращения, стимулирования внутреннего производства. С этой целью в апреле 1759 г. Сенат направил в Пруссию своего секретаря Ф. И. Сукина для сбора сведений о торговле и производстве в провинции, а также для очередной попытки «при-ласкивания фабрикантов и мастеровых перевести в Россию» (История Правительствующего Сената…, 1911, с. 117–120). В отличие от Северной войны, несмотря на отдельные прецеденты, практики массового насильственного вывоза в Россию гражданских лиц из завоеванных обла- стей не было. Не имели практических последствий и русские манифесты о добровольном привлечении пруссаков. Однако людские потоки через границы новозавоеванной провинции выросли в обе стороны: сюда не только въезжали российские военнослужащие и купцы, но и выехало немало бывших прусских подданных. Популярным был «экспорт» в Россию слуг и жен/любовниц4. Несмотря на тогдашнюю неудачу, в планах «приласкивания» можно видеть пролог екатерининской программы приглашения иноверцев немцев вместо елизаветинской колонизации «Новой Сербии» православными.
«22 января [1759 г.] исполнился год, как русские вошли в Кенигсберг, ‒ заносил в свой дневник профессор, а затем ректор университета И. Г. Бок. ‒ Честно признаться, до сих пор, кроме контрибуции, мы не почувствовали никакой враждебности. Военная дисциплина соблюдается строго, жалованье выплачивается неукоснительно, никто не обижен и по большей части все остались в прежнем состоянии» ( Schubert , 1858, S. 60). Разумеется, опыт горожан, тем более привилегированных, как Бок, нельзя распространять без оговорок на всю провинцию, но в целом «второе пришествие» русских разительно отличалось не только от хаоса 1757 г., но и от других оккупационных режимов Семилетней войны, прежде всего в занятой пруссаками и обобранной ими до нитки Саксонии. В исторической памяти пруссаков «русская эпоха» осталась под знаком «мягкости» ( Milde ). Но говорили за себя и цифры. Показательными итогами стали не только оживление экономики Восточной Пруссии после 1758 г., но и постепенный демографический рост к концу войны ( Hagen , 1818, S. 558–559).
Помимо уменьшения и растягивания сроков сбора контрибуции, в нее засчитывались суммы за фураж и тележную повинность. Расходы на пребывание армии – постой, лазареты, ремонтирование лошадей, провоз казенных товаров, поставку обмундирования, печение хлеба – оплачивались из центра. Часть прежних податей при новом режиме – например, акцизный или специальный лошадный сбор ( Ritterpferde- или Kavalleriegeld ) – не собирались вовсе. Но и из собранных сумм большая часть шла на местные нужды – ликвидацию последствий военных действий и «эксцессов» 1757 г., выплаты жалованья служащим (включая вспоможение прусским солдаткам, мужья которых воевали против России) (Ibid. S. 538), инфраструктурные вложения (починку дорог, ремонт и достройку Кенигсбергского замка, крепостей, сооружение т.н. «русской дамбы» в Пиллау и т.п.). Конъюнктура для местных торговцев и ремесленников была связана не только с армейскими подрядами, но и резко выросшим спросом на предметы роскоши с пребыванием в Кенигсберге высших офицеров и генералитета, а также комиссиями для петербургского двора.
Как немецкие, так и российские историки XIX в. нередко списывали мягкость режима на лояльность остзейцев как основных агентов российской администрации к соплеменникам и единоверцам. Это не совсем несправедливо: у остзейских элит с династическим лоялизмом действительно сосуществовала протонациональная немецкая идентичность. Многое объяснялось и простой нехваткой языковых и профессиональных компетенций: не имея представления об особенностях прусского делопроизводства, у властей не было иного выхода, как оставить прежних чиновников на своих местах, а те, как президент военной и удельной камеры Гумбинена И. Ф. фон Домхардт, умело саботировали попытки Петербурга извлечь из провинции больше ресурсов.
Но в мягкости режима новозавоеванной территории можно видеть и продолжение начатой в Остзее петровской «планомерной политики укрепления престижа» [Die baltischen Kapitulationen…, 2014, S. 3‒4]. «Сохранение приобретенной в Европе знатности» (АКВ, 1870– 1895, кн. 25, с. 314) подразумевало не только собственно владение / умножение территорий, но и обращение с населением. Катастрофическая кампания 1757 г. нанесла огромный репутационный ущерб, поэтому при Ферморе ужесточили дисциплинарные меры в армии, уменьшили количество иррегулярных войск и наладили снабжение армии – главный провоцирующий фактор мародерства. Проблема не исчезла полностью, но свелась к индивидуальным случаям. Россия постоянно декларировала свое отличие от поведения Фридриха II в завоеванной им Саксонии. «Мягкость» и «женерозные сантименты» вписывались и в сценарий власти императрицы Елизаветы Петровны, которая, как было всем известно в Европе, объявила мораторий на смертную казнь.
В целом же соблюдение баланса между своими интересами и необходимостью обеспечить лояльность завоеванных территорий, особенно в перспективе их дальнейшей интеграции, было общей практикой оккупационных властей эпохи. Cоображения баланса сказались и на экономической политике российского режима. Хотя до войны империя ставила своей целью вытеснить балтийскую торговлю Польши и Украины из Кенигсберга в Ригу (История Правительствующего Сената…, 1911, с. 117), с завоеванием последнего никаких административных мер не последовало. Весной 1758 г. была разрешена торговля Пруссии с внутренними областями Российской империи. Торговые операции с Россией действительно оживились: помимо армейских подрядов, русские купцы стали, к примеру, массово завозить чай ( Hasenkamp , 1866, S. 355). Однако это не компенсировало потерю торговли Кенигсберга с западными и северными соседями на Балтике. Тогда уже через пару месяцев Петербург объявил свободу торговли и с землями Пруссии, оставшимися «за линией фронта» под властью короля. Более того, затем разрешили ранее запрещенный вывоз хлеба – один из основных грузов для перевалки в порту Кенигсберга – в нейтральные порты.
Таким образом, восточные границы провинции открылись, но не были закрыты и западные. Провинция превратилась в своего рода оффшор, и определеннее всего это сказалось в денежном обращении. Полновесная монета, изобильно поступавшая сюда из России для нужд армии, вымывалась из обращения дешевыми суррогатами, которые чеканил Фридрих, чтобы финансировать свою войну. Реагируя на проблему, российские власти решили чеканить собственные монеты на Монетном дворе в Кенигсберге, но и это не спасло ситуации. Даже здесь сказалось подвешенное состояние провинции: хотя прусских орлов везде убирали, на монетах их оставили вперемежку с русским, хотя губернатор Корф обращал на это внимание Петербурга [ В.к. Георгий Михайлович , 1893, с. 17‒18].
Осознание того, что новые земли развиты более, нежели имперский центр, во множестве присутствовали в личных свидетельствах русских военных [ Сдвижков , 2019, с. 178]. С прусской стороны сказывались шаблоны восприятия «московитов», заложенные минимум с Ливонской войны, раздувавшиеся прусской пропагандой и подкрепленные «эксцессами» 1757 г. Попавший в Москву прусский дезертир выразился так: «Ваша земля шелмовская и плутовская и закон (т.е. вера. – Д.С. ) ваш и вы такия християня, как моя онуча, и так как сабака бегает на улице» (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1973. Л. 9). Тем любопытнее мирное сосуществование в течение последующих лет, отнюдь не напоминавшее «столкновение цивилизаций».
Военные, не только офицеры, но и солдаты, стали на это время непосредственными соседями пруссаков, завязались человеческие контакты разного свойства. Архивы говорят не только про «девок, которые от господ российских афицеров обрюхатели» (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1993), но и о романтических историях и смешанных браках [ Кретинин , 2022]. Завоевание Пруссии популяризовало в России разведение карпов и картофеля, в Альбертину прибыли русские студенты. Но воздействие было и обратным. Начало складываться смешанное имперское общество по аналогии того, которое существовало в Остзее, прежде всего в Риге. Провинциальный и отмеченный протестантским ригоризмом Кенигсберг познакомился со светским лоском: общество стало выезжать на регулярно даваемые губернаторские балы, причем без различия не только сословий, но и полов. Забавно, что эмансипацию общественной жизни принесла с собой держава, которая сама всего поколение назад вывела женщин из теремов на ассамблеи.
Выводы
Случай Восточной Пруссии демонстрирует переход от военной оккупации к владению, с переходными формами имперской власти и самого понятия подданства. Хотя «русская эпоха» Восточной Пруссии осталась эпизодом, она иллюстрирует развитие модели интеграции западных территорий в Российской империи XVIII в. Помимо общеимперских принципов непрямого господства, сохранения по возможности статуса-кво, сотрудничества с местными элитами, ограниченного присутствия в военной, фискальной и экономической сферах, особенность этой модели – договорный характер господства. Имперский режим в Пруссии оформлялся в соответствии с общеевропейской практикой занятых военным путем территорий (occupatio bellica), с использованием исторического прецедента Остзее. Помимо того, что управление провинцией осуществлялось в основном остзейцами / «немцами», правовой статус опирался на прецедент остзейских капитуляций. То есть представлял собой договор монарха с местными корпорациями, с работающим правом на апелляцию. Бонусом для местных элит была возможность получить в более «рыхлой» системе управления Российской империи лучший статус, чем в предыдущей жестко централизованной структуре соответственно Швеции и Пруссии. Культурноцивилизационная разница в пользу периферии, осознаваемая обеими сторонами, имела для местных элит и плюсы («мягкость» режима ради соблюдения внешнеполитического престижа, привилегии на русской службе), и минусы (отсутствие в России исторической традиции и правовой культуры взаимодействия центральной власти с корпорациями)5.
К концу войны прусский король Фридрих II уже рассматривал провинцию как отрезанный ломоть. Для подписания мира он был готов отдать ее России. И канцлер Воронцов, и бывший канцлер Бестужев-Рюмин рекомендовали оставить хотя бы «ограниченный контингент» войск в Польше и Пруссии (АКВ, 1870–1895, кн. 25, с. 337, 397). Это была развилка имперской истории: в своем «ближнем зарубежье» Россия наряду со слабой Польшей имела бы ослабленную Пруссию, которую могла бы контролировать непрямо. Но по факту Пруссия усилилась, при ее участии исчезла Польша, возникла граница двух великих держав, которая к началу XX в. стала границей двух военных блоков. Второе пришествие русских в Кенигсберг стало уже совсем иным.