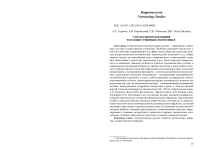Стратегии преодоления в художественных нарративах
Автор: Агратин Андрей Евгеньевич, Корчинский Анатолий Викторович, Моисеева Екатерина Юрьевна, Тюпа Валерий Игоревич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
Репрезентация социокультурных рисков - характерная особенность русской художественной литературы. Наиболее серьезной опасностью, в той или иной мере затрагивающей все сферы жизни общества, писателям виделась потеря идентичности (личностной, национальной, классовой и т.д.). Пафос тревоги, однако, не единственная черта «алармических» повествований, ставящих также вопрос о стратегиях преодоления угроз. Такие стратегии подразделяются на акционные (внешняя активность субъекта противодействия угрозам) и инакционные (внутренняя активность). Данная дихотомия в свою очередь включает в себя ряд частных стратегий, образующих оппозиционные пары: агональная (явная борьба с угрожающими факторами) - стоическая (жертвенное неподчинение); проективная (изменение миропорядка) - консервативная (противоборство дестабилизации жизненного уклада); мобилизационная (экстравертное самопозиционирование субъекта, концентрация ресурсных возможностей личности или коллектива как ответ на возникающие вызовы) - иллюминативная (интровертная позиция, конструктивное погружение контрагенса угрозы в свой внутренний мир). В статье рассматриваются произведения XIX - XX вв. («Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Бесы» Ф.М. Достоевского, «Время, вперед!» В.П. Катаева, «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака и др.), на примере которых показана специфика реализации перечисленных стратегий в фикциональных нарративах. Предложенная в работе типология обладает большим теоретическим потенциалом и, вероятно, может выступить в роли универсальной исследовательской парадигмы, служащей изучению самых разных социокультурных угроз. В отношении художественного дискурса наиболее значимой представляется иллюминативная стратегия, коррелирующая с задачами литературного творчества (озарение, просветление читательского сознания, обретение им целостного духовного самоопределения).
Социокультурные угрозы, стратегия, преодоление, нарратив, художественная литература
Короткий адрес: https://sciup.org/149127280
IDR: 149127280 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00095
Текст научной статьи Стратегии преодоления в художественных нарративах
Русская художественная литература, в особенности романная, начиная от первых нарративных проб Н.М. Карамзина характеризуется ощутимой тревожностью. В большинстве своем она чутко улавливает социокультурные угрозы и риски, предупреждает о них, а нередко и предлагает пути и средства их преодоления.
Пожалуй, со всей остротой эту особенность отечественной словесности осознал и выразил Ф.М. Достоевский в своей пушкинской речи. При этом, будучи сам творцом, он оперировал не отвлеченными «идеями», а характерами, сюжетными ситуациями, событийными интригами - тем, что в наше время именуется нарративными структурами. А главное - ключевую угрозу общенациональному благу он усматривал в утрате русскими людьми личностной идентичности.
На взгляд Достоевского, А.С. Пушкин в фигурах Алеко и особенно Онегина раскрыл характер «исторического русского страдальца», сформировавшийся в «оторванном от народа обществе нашем». Такой человек
** The work was done with the financial support of the grant of the Russian Science Foundation (project no. 17-78-30029).
«в своей земле сам не свой <.. .> оторванная, носящаяся по воздуху былинка». В противоположность Татьяне, у которой «есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа», Онегин - душа безопорная. «Надобно же понимать всю суть этого характера»: он - «вечный скиталец», даже в своем родовом гнезде, «в сердце своей родины, он конечно не у себя, он не дома».
Достоевский небезосновательно видит в таких характерах великую опасность безоглядной революционарности. Неукорененный в народной почве скиталец легко становится «искателем мировой гармонии», способным безответственно «обагрять свои руки кровью». Предотвращение подобной угрозы Достоевский видит в обретении социокультурной идентичности: «Стать настоящим русским, стать вполне русским». «Русское решение вопроса», по Достоевскому, состоит в следующем: «Смирись, гордый человек <...> найди себя в себе <...> усмиришь себя - и <...> поймешь, наконец, народ свой и святую правду его».
Нас интересует не почвенническая идеология Достоевского, а его проницательное внимание к проблематике личностной идентичности. Это специфический для художника угол зрения на «алармическую» проблематику социокультурных угроз. Занимаясь прямым обсуждением и решением общественных проблем, искусство перестает быть эстетической деятельностью, становится публицистикой. Оставаясь же художественным творчеством, оно всегда имеет дело с человеческими индивидуальностями, разворачивая некие модели присутствия личностного «я» в мире. Искусство слова никогда не рассказывает о войне или о любви - только о человеческом «я» на войне или в любви.
При этом Достоевский обозначил наиболее предпочтительную для него стратегию преодоления угрожающего кризиса субъектной идентичности: усмири себя. Однако российская художественная словесность знает и иные антикризисные стратегии.
Прежде всего, следует разграничить акционные стратегии, предполагающие внешнюю активность противодействия угрозам, и стратегии инакционные, внутренне активные. Именно такую предлагал Достоевский.
Простейший случай акционного противодействия - агональная стратегия явной борьбы с открытым вторжением угрожающих факторов в стабильный жизненный уклад существования. Диаметрально противоположна агональности стоическая стратегия «непротивления злу насилием». Это стратегия инакционная, предполагающая внутреннее противостояние угрозе без внешнего противоборства; это жертвенное неподчинение.
Наглядным примером для демонстрации соотносительности двух выделенных стратегий может служить «Капитанская дочка», уже эпиграфом своим сигнализирующая о своей интриге как интриге чести.
Категория чести - одна из наиболее ранних форм субъектной идентичности. На протяжении многих веков субъект существования, претерпевший «бесчестие», не сохранивший или не отстоявший свою честь, утрачи- вал самоидентичность, лишаясь достойного для себя места в миропорядке.
Ко времени возникновения «Капитанской дочки» представления об идентичности социального субъекта не только в европейской, но и в русской культуре существенно усложнились. Концепт идентичности раздваивается на социально-статусную идентичность, аналогичную средневековому понятию чести, и самоидентичность человеческого достоинства личности («Я забываю в нем человека», - восклицал Карамзин по поводу совратителя бедной Лизы Эраста).
Это разные векторы идентификации. Социально-статусная идентичность удостоверяется другими, признающими или не признающими социальный статус данной личности. Индивидуально-личностная самоидентичность удостоверяется самим субъектом, стремящимся во всем многообразии жизненных ситуаций сохранять верность себе. В европейском и в российском общественном сознании конца XVIII - начала XIX веков формируется социокультурный императив «быть самим собой», не утрачивая своего самобытного «я» в коллизиях все более усложняющихся статусноролевых отношений между людьми Нового времени.
Для героев пушкинского произведения ценности корпоративной чести и присяги все еще остро актуальны, но одновременно здесь актуализируется идентичность личной самости, переживаемая как человеческое достоинство субъекта жизни. Утрата этого внутреннего достоинства переживается личностью как непростительная вина перед самим собой.
Пугачев легко принимает на себя чужой статус «государя», но не отблагодарить Гринева за пожалованный заячий тулупчик (о котором никто из приспешников самозванца не знает) означало бы для Пугачева уронить себя в своих собственных глазах. Этой коллизией идентичностей и порождается, по сути дела, вся последующая история Гринева.
Готовностью к смертной казни и отказом поцеловать Пугачеву руку вчерашний мальчик Гринев достигает социально-статусной идентичности, не уронив своей дворянской чести. Этическая значимость этой сцены недвижного стояния перед протянутой рукой Пугачева очевидна: бездействие как стоическое преодоление угрозы бесчестия. Приглашая впоследствии Гринева за стол, Пугачев удостоверяет обретенную молодым человеком социальную идентичность, произнося: «Добро пожаловать; честь и место...»
Но примкнуть к Пугачеву для героя означало бы утрату им этой самой идентичности: «Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу». Преодоление возникшей не физической уже угрозы гибели, а социокультурной угрозы бесчестия осуществляется не путем противоборства, а путем жертвенного неподчинения: «Голова моя в твоей власти: отпустишь меня - спасибо; казнишь - Бог тебе судья».
К аналогичной стратегии поведения Гринев прибегает, отказываясь оправдываться перед комиссией. Поначалу Гринев «отвечал с негодованием <.. .> был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание» (агональная стратегия). Но когда он оказался вы- нужденным для оправдания предавать публичному суду интимную сторону своей жизни, то есть вместо защиты девичьего достоинства Маши пользоваться ею для собственной защиты, Гринев «почувствовал непреодолимое отвращение» к суду и отказался отвечать на дальнейшие вопросы. Это очередной жест стоического бездействия ради сохранения честного «я» (а не честного имени), ради неутраты индивидуального человеческого достоинства. Именно в этом они оказываются едины с Пугачевым. В этом и состоит глубинная художественная мотивировка столь невероятных уз, связавших двух столь различных во многих отношениях людей.
Чтобы остаться «самим собой» Гринев вынужден пренебречь своим общественным статусом. Поэтому для разрешения возникшего кризиса идентичности только «милости, а не правосудия» просит Маша у императрицы. И только неофициальный, индивидуально-личностный, человечный контакт не с императрицей, а с частным человеком - с «дамой», в которой все «невольно привлекало сердце и внушало доверенность», позволяет героине восстановить официальную, сословно-дворянскую честь Гринева.
В ожидании штурма Белогорской крепости Гринев первоначально занимает агональную позицию автогероизации: «Я воображал себя ее <Маши> рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты». После воинского поражения избавленный от петли Гринев, отказываясь целовать руку Пугачеву, переходит к позиции жертвенного неповиновения: «Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению». Ранее агональная стратегия «честного» поведения (отстаивания женской чести) приводит Гринева к вызову им Швабрина на дуэль. Знаменательно, что дуэль оканчивается неудачно для ее зачинщика.
Это общее место («топос») для русской классической литературы. Погибший Ленский был инициатором дуэли с Онегиным; неудачливый Сильвио намеренно спровоцировал графа Б. на оскорбление, чтобы вызвать его на дуэль; гибнет Грушницкий, вызвавший Печорина; Павел Петрович Кирсанов, получающий ранение на дуэли с Базаровым, сам ее инициировал; наконец, в повести Куприна «Поединок» дискредитируется сама идея официального отстаивания чести в агональной форме дуэли.
Своего рода исключением, подтверждающим правило, предстает дуэль Пьера Безухова с Долоховым. Несведущий в стрельбе дуэлянт, вызвавший «бретёра», должен был погибнуть или, во всяком случае, проиграть поединок, но он его выигрывает. Однако всмотримся в обстоятельства этого столкновения самолюбий.
Во-первых, Долохов явственно провоцирует Пьера и является, по сути дела, истинным зачинщиком дуэли. Во-вторых, Долохов отправляется на дуэль «с твердым намерением убить»., тогда как жест вызова, совершаемого Пьером, но не органичного для него, мотивирован сугубо негативно: «<.. .> что-то страшное и безобразное <.. .> овладело им». При этом удачный исход дуэли не восстанавливает самоидентичность героя, а, напро- тив, разрушает ее: «Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь».
Судя по литературным нарративам, этос стоической стратегии верности себе (внутренним основам своего существования) для российской ментальности глубоко органичен. Во всяком случае, удачливый дуэлянт, подобный д’Артаньяну, никогда не становится здесь центральным героем.
С приведенными литературными примерами можно сблизить несколько масштабно-исторических аналогий: старообрядчество протопопа Аввакума; тактика отступления и оставления Москвы в войне 1812 года; непокорное стояние на Сенатской площади декабристов, не присягнувших новому царю; позиция многих шестидесятников (таких как Окуджава, например), не примкнувших ни к советскому официозу, ни к активному диссидентскому движению. По всей видимости, не случайно сюжеты мщения (как в «Графе Монте-Кристо») редки и малопродуктивны для отечественной классической словесности.
Иное дело - советская проза о войне, нарративно осваивавшая исторический период, который с неизбежностью требовал ратного преодоления военной угрозы.
Вообще агональная стратегия противодействия угрозам находит ожидаемо широкое применение в соцреалистических нарративах. Один из наиболее ярких примеров - роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (1932-1934). Мир этого произведения полностью построен на символах и метафорах конфликта и вражды. С самого детства герой книги, Павел Корчагин, борется с реальными и воображаемыми противниками: с попом отцом Василием, учителем закона Божьего, с мальчишкой-сменщиком на работе в пристанционном буфете, с высокомерными сверстниками - детьми богатых родителей, с врагами на Гражданской войне, с бюрократами в партии, с собственными чувствами к Рите Устинович, с болезнью... Бытие героя во всех его проявления оказывается тотальной угрозой. Враги и предатели обнаруживаются повсюду - в прямом и переносном смысле.
Даже части своего тела, ослабевающие в ходе прогрессирующего заболевания (оно подробно описывается во второй части романа), он определяет в терминах боя, сражения: «Жизнь продолжает меня теснить на фронте борьбы за здоровье. Получаю удар за ударом. Едва успеваю подняться на ноги после одного, как новый, немилосерднее первого, обрушивается на меня... Отказалась подчиняться левая рука. Это было тяжело, но вслед за ней изменили ноги...». Сама жизнь воспринимается героем (и автором) как постоянная борьба - революционная, военная, политическая, экзистенциальная, бытовая, даже физиологическая. Агональные мотивы определяют и внутренний мир персонажа - слабости, страхи, сомнения в себе, моменты отчаяния и т.п. рассматриваются как враждебные чувства, ослабляющие героя в его милитарном бытии. Личностную самоактуализацию он связывает со стремлением найти «свое место в железной схватке за власть». Даже выход написанной им в финале романа книги смертельно больной Корчагин рассматривает как возвращение «в строй и к жизни» -
«с новым оружием». Таким образом, агональная стратегия реализуется в тексте Островского не только на событийном уровне, но и на всех уровнях организации произведения - от этоса рассказывания до речевого строя.
Каждая из выявляемых стратегий преодоления не просто направлена на угрозу как некоторую «объективную» данность, но обязательно включает в себя базовое представление, определенный воображаемый конструкт угрозы, которую данная стратегия призвана преодолеть. Поэтому та или иная стратегия, как правило, связана с определенным набором угрожающих факторов.
Так, проективная и консервативная стратегии, принадлежащие наряду с агональной к числу акционных, образуют оппозицию не только по способу реагирования на угрозу, но и по характеру агенса, структуры и социокультурной природы самой угрозы. В рамках проективной стратегии в качестве рисков обнаруживают себя стагнация, общественная пассивность, несправедливость, угрожающая правам и свободам человека, социальная и моральная деградация, оправдываемая во имя стабильности, безопасности и сохранения существующего порядка. И наоборот, реализатор (контрагенс) консервативной стратегии усматривает угрозу в дестабилизации, утрате моральных ориентиров, в размывании проверенных временем моделей мышления и поведения, в нарастании социальной конфликтности ит.д.
Проективная стратегия в широком смысле подразумевает активную преобразовательную деятельность персонажа - контрагенса угрозы, - направленную на ее преодоление. Эта стратегия связана с картиной мира, в рамках которой угроза объясняется несовершенством существующего миропорядка, изменение которого может привести к улучшениям, а отсутствие инноваций - к остановке развития и, следовательно, к воспроизводству злокачественных установлений. Новизна здесь не является самоцелью, но при этом культивируется как универсальное средство решения проблем.
Проективная стратегия может реализовываться в двух основных формах. Во-первых, это производство идеальных (невозможных сегодня или возможных только теоретически) моделей будущего. Это могут быть масштабные социальные утопии, затрагивающие все стороны жизни и даже подразумевающие антропологическую революцию (сотворение «нового человека»), или же конкретные проекты тех или иных преобразований: новый брак, новый быт, новая мораль, новые стратегии персональной идентичности, в корне меняющие самую суть этих явлений.
Во-вторых, это экстраполяция в (недалекое) будущее положительных тенденций прошлого и настоящего, новые решения насущных проблем, вытекающие из существующих предпосылок и возможные уже сегодня или в ближайшее время. Например, в романе «Что делать?» Н.Г. Чернышевского деспотичной матери Веры Павловны оказываются свойственны «разумный эгоизм» и «реализм» новых людей, хотя и в искаженных «старым порядком» формах; религиозность Ниловны в романе М. Горького
«Мать» дает ей возможность принять активизм сына и самой влиться в революционное движение.
Однако главное в романном нарративе проективного типа не столько описание самих выдвигаемых инноваций, сколько трансформационный порыв, захватывающий и героев, и сам изображаемый мир.
С этим связана специфика наррации: прагматика проективного нарратива, как правило, заключается в «проектировании» читательского сознания, целенаправленном художественно-идеологическом воздействии на читателя и убеждении его не только в возможном и необходимом, но и в неизбежном и уже происходящем преобразовании реальности. Поведенческим образцом становится герой, испытывающий на себе угрозу стагнации, архаизации, опошления и выхолащивания собственной субъектности и преодолевающий эту угрозу путем последовательной реализации проекта, заложенного в основание романной «истории».
В случае Чернышевского основу занимающей нас стратегии составляет рациональное усилие объяснения событий себе и другим - этим заняты, прежде всего, Лопухов, Рахметов и отчасти Кирсанов. Вера Павловна склонна не только к рациональному, но и к интуитивному познанию переживаемого становления нового мира - через сновидения и сложные эмоциональные состояния. В случае Горького фактором преодоления угрозы является исключительно внерациональное постижение - усилие материнского сердца, эмоциональная эмпатия по отношению к новому, несущему «правду».
Консервативная стратегия подразумевает активную деятельность по противоборству дестабилизации жизненного уклада, составляющего, по мнению субъекта этой деятельности (контрагенса угрозы), устойчивую традицию - систему ценностей, норм и принципов, унаследованных от предшествующих поколений и составляющих «естественный порядок вещей». Консерватизм эпохи модерна - одна из «модерных» идеологий, направленных против крайностей модернизации. Эта стратегия, хотя и альтернативна по отношению к проективной, но при этом также предполагает развитие и изменение мира. Однако ход времени здесь зависит от логики, заданной традицией и обеспечиваемой преемственностью «старого» и «нового». Эта преемственность не допускает революционных разрывов в ткани исторического времени, предпочитая подчиненное глубинной эволюционной логике развертывание личной и общественной истории.
В качестве угрозы здесь мыслятся не любые проекты и перемены, но лишь те, которые потенциально могут привести к эрозии гипотетического «векового порядка», вызвать ослабление или даже крах традиционных установлений, что рассматривается как разрушение социального и культурного мира как такового. Консерватор ратует за проверенные средства в решении проблем, не доверяя сомнительным новшествам.
В координатах художественного нарратива эти свойства консервативной стратегии характеризуются следующими чертами: 1) герой (контрагенс угрозы) является не пассивным «охранителем», он занят активным поиском себя, построением собственной идентичности (романные нарративы консервативного типа активно используют в целом весьма «прогрессистскую» жанровую форму романа воспитания); 2) субъект действия и субъект наррации характеризуются крайним критицизмом по отношению к разного рода инновационным идеям и их носителям (современные исследователи даже предполагают, что русский консервативный роман 1860-х гг. породил специфическую нарративную форму, противоположную «роману идей» (roman a these) - «роман опровержения идей»); 3) пафос и этос наррации, выстроенной в логике данной стратегии, подразумевают острое переживание надвигающейся катастрофы, а также - опасной таинственности, окутывающей происходящие события, чему часто соответствуют конспирологические мотивы, объясняющие угрозы действием «скрытых сил», которым приписывается сознательная и последовательная злонамеренность.
Яркий пример консервативной стратегии - роман «Бесы» Ф.М. Достоевского.
Во-первых, в нем имеют место несколько сюжетных линий, связанных с трансформацией идентичности героя, проблематизирующего проективный способ мышления и жизненного поведения - путь С.Т. Верховенского, Шатова, Ставрогина. Однако наиболее состоятельной оказывается «воспитательная» линия героя-нарратора Антона Лаврентьевича Г-ва, меняющего свои убеждения по ходу действия и по ходу рассказывания истории.
Во-вторых, в романе осуществляется радикальная деконструкция революционных «новых идей» и намерений политических авантюристов. Причем наиболее сильным аргументом является не только духовная извращенность «теорий» и проектов Верховенского-младшего, Кириллова, Шигалева, того же Шатова, но их «фантастичность», принципиальная непримиримость с реальностью («естественным ходом вещей»).
Наконец, в «Бесах» выстраивается картина социального мира, пронизанного тайнами и слухами, за которыми стоят всепроникающие разрушительные силы, вызывающие смутное предчувствие приближающегося конца света (финальные сцены романа напрямую связывают происходящее с Апокалипсисом Иоанна Богослова).
Черты консервативной стратегии можно обнаружить в романе «Петербург» Андрея Белого, в «Белой гвардии» М.А. Булгакова, а ее пародийную инверсию - в «Мелком бесе» Федора Сологуба. Зарождение данной стратегии может быть отмечено в «Отцах и детях» И.С. Тургенева (линия Николая Петровича и Аркадия, примиряющая «старое» и «новое).
Еще одну пару альтернативных стратегий составляют мобилизационная (одна из акционных) и иллюминативная (инакционная). Обе эти стратегии определяются в первую очередь фигурой контрагенса, потенциалом самого субъекта противостояния угрозе, вне его прямого противостояния с агенсом (агональная и стоическая стратегии) или существующим миропорядком (консервативная и проективная стратегии). В этом смысле перед нами наиболее глубокие механизмы сохранения идентичности: пер- сонаж должен разобраться в себе самом, чтобы сберечь свое «я».
Мобилизационная стратегия довольно широко представлена в жанре советского производственного романа. Один из наиболее показательных примеров - «Время, вперед!» В.П. Катаева. В центре повествования - один день из жизни стройки на Урале, участники которой стремятся превзойти харьковский рекорд по количеству замесов бетонного раствора. Отставание переживается ими как угроза стагнации. Для героев произведения это вопрос их коллективной идентичности - каждый смотрит на себя с точки зрения вклада в общее дело и, по большому счету, именно в нем обнаруживает свою индивидуальность.
Такая диалектика общего и частного символически передана в сцене, где беллетрист Георгий Васильевич, приехавший на стройку в поисках новых сюжетов, наблюдает за происходящим из окон гостиницы. Вначале писатель видит «маленькие человеческие фигурки», но сквозь бинокль начинает различать лица, позы, движения: «Общее уступило место частному. Фигурки людей неподвижно разошлись, увеличиваясь до своего настоящего человеческого роста и цвета, и вышли из неподвижности».
Единственный способ вырваться вперед и утвердиться в качестве жизнеспособной команды - концентрация ресурсных возможностей коллектива, что очень хорошо понимает руководитель шестого участка Маргулиес. Он беспрестанно рассчитывает количество секунд, минут, часов, замесов, людей, материалов, необходимых для достижения желаемого результата. Персонаж пробуждается раньше будильника, стараясь как можно быстрее и вместе с тем тщательнее подготовиться к решению предстоящей задачи, в кратчайшие сроки аккумулировать силы трудящихся под его руководством людей.
Главным «врагом» коллектива оказываются вовсе не «харьковские бетонщики», а время - безличный, а потому куда более грозный противник, от которого исходит угроза стагнации. Показанный в романе производственный подвиг не агональная борьба за превосходство над равновеликим «конкурентом», а попытка превзойти самих себя - иначе подчинить «стихию» невозможно. Именно о контроле над временем мечтают герои. Эта жизненная программа передается Катаевым в виде ряда кратких «формул». Они репрезентируют стиль всего произведения: динамика развертывания текста - резкие «скачки» от одного предложения к другому - коррелирует с сюжетным движением: «Время сжато. Оно летит. Оно стесняет. Из него надо вырваться, выпрыгнуть. Его надо опередить».
Может возникнуть впечатление, что границы между мобилизационной и агональной стратегиями довольно зыбкие: дух состязательности присутствует и в ситуации дуэли, и в производственном порыве катаевских персонажей (неслучайно этот порыв с легкой руки Налбандова именуется ими «французской борьбой» - в тех случаях, когда форсирование темпов работы встречает сомнение или категорический отказ). Но в рамках авторской картины мира агональная стратегия имеет целью удовлетворение только личных интересов, а потому ложна. Например, «карьерист» Мося рассматривает стройку как способ прославиться: «Но какая смена будет бить рекорд? И когда? В этом все дело. Тут вопрос личного, Мосиного, самолюбия».
Заблуждение персонажа во многом обусловлено тем, что мобилизационная стратегия изначально ориентирована на самопроявление - она экстравертна по своей сути. Концентрация ресурсов не имеет смысла, если за ней не последуют соответствующие действия. При этом такого рода активность распространяется экстенсивно, охватывает все новых и новых участников социальной жизни, что неизбежно ведет к укреплению связей между ними, а это уже залог сохранения не только коллективной, но и исторической идентичности. Такова теория секретаря редакции Тригера, полагающего, что «повышение производительности одного хотя бы механизма <.. .> влечет за собой хоть и маленькое, но безусловное повышение темпа всей системы в целом, то есть в известной мере приближает время социализма».
Реализация мобилизационной стратегии невозможна без лидера, за которым устремляются люди, обнаруживая в нем своего героя - он не отделим от коллектива и вместе с тем является самым ярким его представителем. В романе эта роль отводится Маргулиесу, наделенному подчеркнуто «богатырскими» чертами. Руководитель участка физически и морально вынослив (пренебрегает отдыхом, едой), полностью отдается исполнению предназначенной ему миссии. Близок к Маргулиесу по «силе» и самоотверженности прораб Корнеев, который не спал сутки, но продолжает управлять стройкой, пьет из ведра воду, не обращая внимания на «сильный привкус медицинского бинта», сосредотачиваясь исключительно на деле. Подобную выдержку обычно проявляют на поле боя. Неслучайно Катаев сравнивает стройку с войной, в ходе которой «новобранцы становились бойцами, бойцы - героями, герои - вожаками». Характерно, что в романе есть и антигерой - Налбандов. Он ненавидит Маргулиеса и всячески пытается его дискредитировать. Однако Маргулиес борется не с ним (что привело бы к агональной стратегии), а со временем.
Мобилизационная стратегия имеет место отнюдь не только в историях о коллективе. Центральный персонаж последнего рассказа А.П. Чехова «Невеста» - Надя Шумина. Героиня начинает воспринимать до сей поры привычную мещанскую среду как реальную угрозу личностной самоактуализации. Стимулом для подобной переоценки прежних идеалов (удачное замужество - важнейший из них) оказывается общение с Сашей, гостем из Москвы (он выступает в амплуа того самого лидера, образцом которого в романе Катаева служит Маргулиес). Александр Тимофеич настроен против старых порядков и убеждает свою молодую знакомую в необходимости «перевернуть жизнь» - распрощаться с семьей, с перспективой удачного брака и отправиться учиться. Призыв героя к скорейшим переменам созвучен речам лидеров социалистического строительства, хоть и снабжается менее очевидными идеологическими импликациями: «Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне <...>. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди...».
В отличие от рассмотренной выше проективной стратегии усилия контрагенса угрожающей деградации жизни направлены не на преобразование обстоятельств, а на самое себя. Перед Надей встает задача найти в себе скрытые эмоциональные и нравственные ресурсы (мобилизоваться), чтобы стать частью нового мира, чуждого отживающим представлениям о комфорте и семейном благополучии. После «революционного» перелома в своей судьбе девушка понимает, насколько тесен ее родной дом - в буквальном и фигуральном смысле: «<.. .> чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низки». Потенциал человека воплощается благодаря расширению социальных связей, освоению новых «территорий», социокультурному прогрессу (это непременное условие применения мобилизационной стратегии). Так героиня мыслит будущее: «<...> и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее».
В рассказе Чехова контрагенс угрозы - индивид. Однако его «я» все равно раскрывается в приобщении к определенному кругу людей (образованных, демократичных, передовых и т.д.), то есть, в конечном счете, - к некоему коллективу. Вероятно, поэтому героиня почти слово в слово повторяет уроки своего «наставника», не озвучивая собственных мыслей, а транслируя усвоенную мировоззренческую установку (коллективную точку зрения на вещи): «Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, - будет же время, когда от этого дома не останется и следа, и о нем забудут, никто не будет помнить».
Отметим, что чеховский взгляд на повествуемые события сложнее, чем у героев. Поведение Нади в некоторых своих моментах может показаться сомнительным, как обесценивается в ее собственных глазах авторитет Саши, склонного к излишнему морализаторству, повторению одних и тех же идеологических клише. Однако эти частности не дискредитируют самой мобилизационной стратегии.
Иллюминативная (от лат. illuminatio - свет, англ, illumination - озарение, вдохновение, яркость, освещенность) стратегия преодоления угроз относится к инакционным стратегиям и подразумевает усилия персонажа, направленные, прежде всего, на самоопределение и саморазвитие в любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах. В отличие от мобилизационной, иллюминативая стратегия интровертна и предполагает конструктивное погружение субъекта в свой внутренний мир.
Герой рассказа Чехова «Студент» ощущает себя потерянным в бесконечном и бессмысленном течении времени: «<...> студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод <.. .> все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше». Иван Великопольский предоставлен самому себе. Он озабочен проблемой персональной идентичности, имеющей в данном случае историософскую подоплеку. Герой одинок: в экзистенциальной ситуации данного произведения нет и не может быть коллектива, принадлежность к которому исчерпывала бы «самость» персонажа.
Если герои романа «Время, вперед!» путем общих усилий «подчиняли» время, рассматривая его на уровне действий, совершаемых здесь и сейчас, то студента же занимает «большое время», выходящее далеко за пределы повседневной реальности. Персонаж «спасается» тем, что осуществляет аксиологическое переосмысление неустранимой данности бытия.
Пациенс угрозы обессмысливания жизни и своего места в ней благодаря своим ментальным усилиям трансформируется в контрагенса, внутренне противостоящего факторам тревоги и страха. Рассказав двум вдовам притчу об отречении Петра и наблюдая их неожиданную для него реакцию, студент вдруг осознает, что непрерывность жизни обеспечивается взаимопониманием людей, их таинственной внутренней связью, преодолевающей время: «<...> если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему - к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям». Прозрение героя, достигаемое путем «самопогружения», предстает в этом рассказе эффективным способом одоления угрозы «потери себя».
Носитель иллюминативной стратегии, как правило, осведомлен о нависшей над ним угрозе и осознает ее, но выбирает не акционное сопротивление, а дистанцирование, уход в себя, поиск внутренней опоры, «круга спасительных занятий», который призван не устранить угрозу, но сберечь самоидентичность, не подвергая редукции основания собственной личности. Эту способность - при необходимости превозмогать обстоятельства, не давая им уничтожить себя, и находить какие-то индивидуально значимые источники сопротивления - в полной мере проявляет главный герой романа «Доктор Живаго». Прибегая в случаях непосредственного взаимодействия с агенсом угрозы к стоической стратегии (разговор со Стрельниковым в штабном вагоне; стрельба в дерево, чтобы не попасть в человека, в партизанском отряде), основной линией жизненного поведения в ситуации исторической катастрофы герой Пастернака делает иллюминативную стратегию.
Пастернака в целом занимала сила внутренних состояний, которая, по его мнению, могла помочь преодолеть любую угрозу. У него есть заметка: «Я знал двух влюбленных, живших в Петрограде в дни революции и не заметивших ее». Шанс «не заметить» революцию - невиданная роскошь, которая возможна только в условиях противопоставления миру внешнему мира внутреннего и наделение их равной значимостью.
В «Докторе Живаго» повествователь сообщает читателю, что «с каждым случилось по две революции, одна своя, личная, а другая общая».
Борьба с хаосом и разрушением социума принимает в романе разные формы, но одна из важнейших задач - не поддаться «озверению», расчеловечиванию, утрате себя. Пастернак наделяет героев разными, часто противоположными стратегиями, давая читателю возможность оценивать контрастные модели поведения. И читатель видит, что стремление Антипова-Стрельникова насилием превзойти насилие ведет к озверению и заканчивается катастрофой, а стремление Юрия Живаго понять о жизни и о себе «что-то главное» помогает ему остаться человеком.
В самом начале романа дядя и воспитатель главного героя, Николай Николаевич Веденяпин, трактует историю как «преодоление смерти»: «А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование».
Поиск «духовного оборудования» для преодоления возникающих социокультурных угроз, связанных с общественным переустройством, с революцией, которую нарратор отождествляет со стихией - «по России прокатывались волны революции, одна другой выше и невиданней», - становится основной задачей Юрия Андреевича. Вопреки опасности поддаться всеобщей страсти, круговороту насилия и бравады («смелость города берет, маменька»), он углубляется во внутренние поиски, в поиски смысла собственной деятельности и своего индивидуального бытия в мире. Этот поиск не кажется ему чем-то возвышенным и не является духовным отречением от мира.
Напротив, Пастернак всячески акцентирует необходимость индивидуально-значимых, небольших дел, которые, тем не менее, могут воздействовать на мир и менять его. Именно об этом говорит «кумир юности» Живаго - Веденяпин: «Для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна».
Другими словами, иллюминативная стратегия предполагает поиск некоего внутреннего озарения, которое способно осветить человеку его собственный путь (как это в зародышевой форме явлено в «Студенте»), Для Живаго таким ответом на угрозы социальные и экзистенциальные оказывается работа, служение, творчество: «Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали -талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант - в высшем широчайшем понятии - есть дар жизни».
В диалогах и спорах с близкими, коллегами и случайными знакомыми Живаго выражает свой способ противодействия возникающим угрозам. Он силится объяснить им важность внутренней работы, и даже во время своей болезни, в горячке ему представляется, что он находит свой источник: «На улицах стало светло. Можно работать. И вот он пишет. Он пишет с жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно написать, но никогда не мог, а вот теперь оно выходит».
Однако яснее и полнее всего избранная героем стратегия преодоления раскрывается в диалоге с самим собой: после отъезда на Урал, в Юрятин, Живаго начинает вести дневник, который становится для него способом авторефлексии и фиксации этапов последовательной реализации своей жизненной стратегии. Знаменательно, что эти записи - о той трудной жизни, которую ведет его семья в Юрятине полны не жалоб или жажды мщения за утраченные блага цивилизации, но успокоительного перечня «спасительных занятий»: «Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая творцу в сотворении вселенной, вслед за родной матерью производя себя вновь и вновь на свет!».
При этом даже в таких, откровенно душеспасительных рассуждениях, Живаго постоянно одергивает себя, оговаривается, что подобные поиски и выводы из них невозможны как всеобщий рецепт счастья, а востребованы лишь индивидуально - человеком, личностью, избирающей для себя такой путь: «Я не иду дальше сказанного, не проповедую толстовского опрощения и перехода на землю, я не придумываю своей поправки к социализму по аграрному вопросу. Я только устанавливаю факт и не возвожу нашей, случайно подвернувшейся, судьбы в систему».
В эпоху всеобщих свершений и сражений, когда стремление навязать другому свою волю и сломить сопротивление приравнивается к доблести, сдержанность и лояльность - это проявление иллюминативной стратегии, не предполагающей борьбы, но способствующей интровертному познанию границ и возможностей собственной индивидуальности.
Недаром другой герой романа - Стрельников, избравший для себя агональную стратегию и даже находящий в этом какую-то звериную радость, так остро реагирует на Живаго при их случайной встрече: «Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь, существа из апокалипсиса с мечами и крылатые звери, а не вполне сочувствующие и лояльные доктора». Но Живаго остается верен себе. Он пишет: «Без конца перечитываем “Войну и мир”, “Евгения Онегина” и все поэмы, читаем в русском переводе “Красное и черное” Стендаля, “Повесть о двух городах” Диккенса и коротенькие рассказы Клейста», - так, словно это и есть самое важное, что происходит с ним и его семьей. Его способ противостояния - это осознание и принятие внутренней идентичности, которую необходимо выразить, запечатлеть: «Как хотелось бы наряду со службой, сельским трудом или врачебной практикой вынашивать что-нибудь остающееся, капитальное, писать какую-нибудь научную работу или что-нибудь художественное».
По воле автора, это удается: как мы знаем, роман заканчивается «Стихотворениями Юрия Живаго», в состав которых Пастернак включает свои лучшие произведения. В этом художественном жесте - его солидаризация с избранной героем стратегией и своеобразное доказательство ее результативности.
Яркое проявление иллюминативной стратегии можно усмотреть в эс-сеистике Бродского, который рассуждает об угрозе банальности и повсеместности зла: «Пойдете ли вы по жизни дорогой риска или благоразумия, вы рано или поздно столкнетесь с тем, что по традиции принято называть Злом. Я говорю не о персонаже готических романов, а как минимум о реальной общественной силе, которая никоим образом вам неподвластна». В качестве сопротивления он предлагает своим читателям и слушателям не попытки повсеместного искоренения зла, но иллюминативную стратегию результативной авторефлексии: «Не менее очевидно, что самая надежная защита от Зла - в бескомпромиссном обособлении личности, в оригинальности мышления, его парадоксальности и, если угодно - эксцентричности. Иными словами, в том, что невозможно исказить и подделать». Отсюда рождается знаменитая формула Бродского: «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека - всегда можно».
На примерах из русской литературы нами были рассмотрены стратегии преодоления угрожающих кризисов личностной идентичности. Это стратегии поступков, жизненного поведения, представляющие, по нашим наблюдениям, повышенный художественный интерес. Они складываются в цельную и сбалансированную парадигму противостояний «злу» универсальной значимости. Иначе говоря, выявленные стратегии актуальны и действенны для широкого круга социокультурных угроз.
Что же касается собственно нарративных стратегий литературного рассказывания, то для художественного дискурса из выявленного спектра наиболее органичной представляется иллюминативная. Литературное творчество, в особенности классическое, ориентировано на озарение, просветление читательского сознания, на обретение им целостного духовного самоопределения (прочной самоидентичности).
Агратин Андрей Евгеньевич, Российский государственный гуманитарный университет; Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.