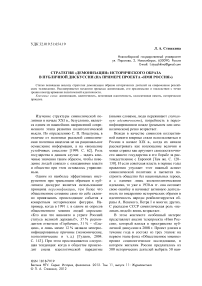Стратегия «демонизации» исторического образа в публичной дискуссии (на примере проекта «Имя Россия»)
Автор: Стяжкина Лилия Анатольевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Теория и практика массовой коммуникации
Статья в выпуске: 11 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу стратегии демонизации образов исторических деятелей на современном российском телевидении. Рассматривается механизм процесса демонизации, его предпосылки и последствия с точки зрения конструирования политической идентичности.
Демонизация, идентичность, негативная идентичность, коллективная память, историческое прошлое
Короткий адрес: https://sciup.org/14737696
IDR: 14737696 | УДК: 32.019.51:654.19
Текст научной статьи Стратегия «демонизации» исторического образа в публичной дискуссии (на примере проекта «Имя Россия»)
Изучение структуры символической политики в начале XXI в., безусловно, является одним из важнейших направлений современного этапа развития политологической мысли. По определению С. П. Поцелуева, в отличие от политики реальной символическая политика нацелена не на рациональное осмысление информации, а на «внушение устойчивых смыслов» [1999. С. 62]. Роль государства в данном случае – задать ключевые значения таким образом, чтобы поведение людей совпало с ожиданиями власти и общество при этом оставалось управляемым.
Одним из наиболее эффективных инструментов при трансляции образцов в публичном дискурсе является использование принципа персонификации , тем более что общественное сознание само по себе склонно привязывать происходящие события к конкретным историческим фигурам. Например, когда в 1991 г. в одном из опросов общественного мнения людей спросили: «Кто или что виновато в утрате Россией статуса великой державы?», 37 % респондентов ответили «Горбачев», 31 % – «Ельцин», и лишь менее 12 % назвали неперсо-нифицированные причины (экономические, геополитические и т. д.) [Гудков, 2004. С. 143]. При этом прослеживается следующая тенденция: когда в обществе происходит смена идеологической парадигмы
(иными словами, люди переживают спутанную идентичность ), потребность в персонифицированном вожде (реальном или символическом) резко возрастает.
Вожди в качестве символов коллективной памяти впервые стали использоваться в России в начале XIX в., когда их начали рассматривать как воплощение величия и мощи страны как аргумент самодостаточности нашего государства в его борьбе за рас-тождествление с Европой [Там же. С. 120– 130]. И если советская власть в первые годы правления упускает этот важный аспект символической политики и пытается построить общество без национальных героев, а с одними лишь космополитическими идеалами, то уже к 1930-м гг. она осознает свою ошибку и начинает активную деятельность по внедрению исторических образов в идентичность народа: реабилитируются образы А. Невского, Петра I и многих других. С распадом СССР символическая роль «великих людей» вновь возрастает.
В этом контексте особенный интерес представляет анализ телепроекта «Имя Россия», который влился в пространство публичной дискуссии в 2008 г. Проект длился в течение года и состоял из трех этапов: на первом этапе фонд «Общественное мнение» провел социологическое исследование, в котором жителям России предлагалось из 500 исторических деятелей выбрать 50 наи-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 11: Журналистика © Л. А. Стяжкина, 2012
более значимых, при этом неважно, положительный или отрицательный след они оставили в истории страны. Всего «по месту жительства было опрошено 6 000 респондентов по выборке, репрезентирующей население Российской Федерации 1». На втором этапе из 50 персонажей было отобрано 12. После этого проект перешел в телевизионный формат: каждому из 12 деятелей была посвящена часовая дискуссия, при этом у героя обсуждения были свой защитники и оппоненты. Каждая дискуссия начиналась с демонстрации ролика, представляющего героя беседы. Финальный рейтинг был составлен по итогам голосования зрителей через интернет, телефонные звонки и смс-сообщения. По данным официального сайта телепроекта nameofrussia.ru, было получено 4 498 840 голосов.
Помимо того, что сам проект основан на принципе персонализации символов, в некоторых дискуссиях была использована стратегия демонизации образа , к которой, в частности, можно отнести ток-шоу, посвященные И. В. Сталину, Петру I и В. И. Ленину. Эти исторические деятели в общем рейтинге занимают 3, 5 и 6-е места соответственно, а значит, играют важную роль в символическом пространстве телезрителей. Сам термин «демонизация» не является устоявшимся в современной науке, но мы будем опираться на следующее определение: «демонизация – это представление какого-либо субъекта как существа, склонного по своей природе к аморальному и антиобщественному поведению; как существа, обладающего для реализации своих аморальных функций некими сверхобычными, иногда магическими способностями и являющегося источником опасностей и неприятностей для других» 2. Анализ обозначенных выше телевизионных дискуссий позволяет раскрыть некоторые механизмы этого процесса.
Отделение персонажа от человеческого рода
Каждое ток-шоу в цикле «Имя Россия» начинается с короткого ролика, характеризующего конкретную историческую лич- ность. При этом ролики, представляющие Петра I и И. В. Сталина, строятся по одной схеме. Вот, например, как авторы конструируют образ Петра I: «Староверы считали его антихристом. И то сказать, внешность его поражала воображение, было в ней что-то нечеловеческое: рост 2 метра 13 сантиметров, при этом крошечный размер ноги <...> Огромные круглые кошачьи на выкате глаза, страшная физическая сила, неутомимость в работе, питии и битве» 3. Сравним с тем, как подается образ И. В. Сталина: «Когда он входил в зал Ливадийского дворца во время Ялтинской конференции, Черчиллю, по его собственному признанию, хотелось встать» 4. При создании образов обоих правителей здесь и далее часто используется слово «нечеловеческое», которое подчеркивает демоническое начало героев. Такая апелляция к потусторонним силам выносит этих людей за рамки человеческого рода, что, в свою очередь, словно снимает ответственность народа за деяния своих вождей. Параллельно с этим герои наделяются сверхъестественными способностями, и это является обязательным условием процесса демонизации.
При трансляции образа В. И. Ленина используется немного модифицированная схема – мистическое начало здесь уступает место идее о «сверхчеловеке»: «Нет ничего более мертвящего, чем видеть в каждом деле классовый, имущественный интерес, объявлять все плотское базисом, а все духовное – легковесной и необязательной надстройкой. Он сумел сделать из себя принципиально новое человеческое существо: абсолютный прагматик, никаких предрассудков, никаких человеческих симпатий» 5. В этом фрагменте текста видеоролика мы видим сразу две важные тенденции: приоритет материального над духовным и механистичность образа. Последний компонент, кстати, использовался в советской традиции для изображения образа фашиста – бездушного врага-автомата. В ходе обсуждения поддерживает эти идеи и поэт Ю. М. Кублановский, который утверждает, что целью Ленина было построение мирово- го коммунизма, для которого Россия рассматривалась лишь как ступень на пути к эволюции. Он называет «вождя пролетариата» «архибесом».
Дуалистичностькак основа демонизации образа
Все три исторических деятеля имеют крайне противоречивые оценки у современников, что поддерживается в публичной дискуссии телепроекта при помощи оформления дуалистичных образов. С одной стороны, все они были вождями, каждый из которых выиграл свое большое сражение (Петр I и И. В. Сталин – с внешними врагами, а В. И. Ленин – с внутренними), все трое сделали гигантский скачок в развитии страны. С другой стороны, все они не избежали человеческих жертв. Эта базовая дихотомия является определяющей для дальнейшего хода дискуссий.
Положительные компоненты символического поля анализируемых образов строятся на эксплуатации мифа о великодержавности . Так, к основным заслугам данных исторических деятелей авторы относят в первую очередь то, что они укрепляли сильное государство. Петр I, по мнению создателей проекта, «оставил по себе не только страшную память, но и выстроенную за 30 лет сверхдержаву». Далее эта риторика продолжается в основном в речах B. C. Черномырдина и Г. А. Зюганова, которые сводят многие достижения страны к заслугам Петра: «Мы освоили огромные пространства, которые сегодня достались в наследство молодым людям и на которые сегодня зарятся все. У нас, имея два процента населения, 35 % всех основных богатств планеты. Поэтому Петру I надо спасибо сказать, что он заложил сильное государство». При этом понятие «великое государство» связывается в сознании участников дискуссии с обширной территорией и большими запасами природных ресурсов . «Взял страну с сохой, а оставил с ядерным оружием», – так характеризуют авторы проекта Сталина, и здесь тоже несложно заметить отсылку к великодержавности, потому что именно ядерное оружие занимает третье по значимости место в представлении россиян о сверхдержаве [Дубин, 2007. С. 325].
Негативная составляющая образов всех героев сводится к теме насилия над собст- венным народом, которая транслируется зрителю с разными смысловыми акцентами. В дискуссии о Петре I риторика насилия оформляется в теме рабства, отношения и к крестьянам, и к аристократии, как к холопам. Главной негативной характеристикой В. И. Ленина становится то, что для него, как для насажденного западом сверхчеловека, российский народ становится лишь эмпирическим материалом для достижения мирового коммунизма. Конструирование негативной составляющей личности И. В. Сталина, по сути, является совмещением двух описанных выше тактик: с одной стороны, Сталин относился к людям, как к рабам, с другой – воспитывал пассивность людей: «Сталин подменил, затмил собою величайшие подвиги своего народа <...> Есть люди, которым нравится повиноваться, – они-то и создают миф о его железной воле, остановившей немцев под Москвой, хотя остановила немцев под Москвой совсем другая воля».
Сход России с «истинного пути» как главный результат деятельности героя
Кризисным пунктом всех дискуссий, в котором происходит перелом от положительного образа к отрицательному, становится риторика об особом пути России в глобальном цивилизационном контексте. В пользу героев говорит тот факт, что страна сделала огромный скачок в развитии. Так, защищая Петра I, В. С. Черномырдин говорит о том, что благодаря императору мы за тридцать лет прошли тот путь от архаического общества до современного модернизированного государства европейского типа, который мог бы растянуться на несколько поколений. Представлявший Сталина В. И. Варенников в своем докладе указывает на то, что до войны мы за 10–12 лет сделали такие вещи, которые многим западным странам удавалось осуществить лишь за 100–150 лет.
Однако именно этот скачок характеризуется участниками как главный источник опасности для народа. Основным обвинителем такого пути развития в обеих передачах выступил Н. С. Михалков. Он описывает деятельность Петра I следующим образом: «Он хотел при своей жизни видеть результаты своей жизни, но он не рассчитал ни масштабов страны, ни того шлейфа истории, который тянулся за поколениями. Произошла очень серьезная смена вектора, когда эволюция народа благодаря Петру стала революцией народа. А мы знаем, что такое для России замена эволюционного процесса на революционный». Сравним с его высказыванием о политике Сталина: «Вот мне нравится очень одна выписка, цитата из одной летописи XII века, где было сказано, что что-то не получилось, потому что делалось «с тяжким звероподобным рвением». Вот мы историю нашу, культуру, экономику очень часто делаем с тяжким звероподобным рвением».
В дискуссии по поводу значения личности В. И. Ленина на миф об особом пути России накладывается и антизападная составляющая . В основном участники беседы инкриминируют ему тот факт, что, используя труды западных теоретиков, он воплотил схему, утопию на живой стране, в результате чего собеседники приходят к выводу, что идеология эта чужда и вредна России от самого ее основания. Д. О. Рогозин в своих размышлениях доходит до предположений, что Ленин был специально прислан правительством Германии, чтобы развалить и без того слабую Россию в период смуты.
Таким образом, стратегия демонизации в процессе конструирования новой идентичности россиян имеет важное значение.
Дуализм «великого вождя» и «великого тирана» активно эксплуатируется в современных средствах массовой информации с перевесом в ту или иную сторону. Однако если в публичном дискурсе есть сомнения: являются ли Петр I, Сталин и Ленин великими со знаком плюс или минус, то сама «великость» их фигур не оспаривается. Образ «значимого неоднозначного» имеет и свои функции в обществе: «чем ниже <…> уровень авторитетности каких бы то ни было публичных фигур в массовом сознании, чем уже и единообразнее круг признаваемых массой “лидеров” общественного мнения, тем выше индивидуальные и совокупные символические акции подобных обобщенных фигур двойной, позитивно-негативной самоидентификации населения» [Дубин, 2003. С. 14].
Одна из форм политической идентификации граждан – это самоотождествление их со значимыми символическими фигурами.
При этом индивиды проходят через позитивное или негативное сознание «принадлежности к реальной либо воображаемой общности» [Дубин, 2009. С. 60]. Позитивнонегативные, демонические фигуры при этом могут вписаться в символическую структуру сознания россиян тремя способами. В первом варианте граждане ассоциируют себя только с позитивной стороной дуали-стичного образа, вытесняя при этом его негативные компоненты. Такая логика проста: «Мы победили в Великой Отечественной войне вместе со Сталиным, но мы не имеем отношения к его репрессиям». Подобное вычеркивание из собственной коллективной памяти негатива, вытеснение его за рамки рационального приводит к неспособности принять и осмыслить свою историю. Ситуация усугубляется тем, что все три правителя – Петр I, Ленин и Сталин – прошли сложный путь в историческом сознании россиян. Все они пережили взлет, развенчание культа личности, вытеснение из памяти, а затем реабилитацию. Важен при этом тот факт, что, как правило, в массовом сознании реабилитируются те образы, по которым общество испытывает ностальгию при отсутствии схожих в реальной политике. Применительно к данным историческим фигурам можно утверждать, что в основе этой ностальгии лежит тоска по утраченной великодержавности.
При втором варианте встраивания демонических фигур в структуру коллективной памяти россиян сами граждане отказываются идентифицировать себя как с негативными, так и с позитивными сторонами данных личностей. Наконец, третья схема предполагает принятие и того, и другого, но так как сами по себе образы вождей сконструированы противоречиво, полноценно вписать их в собственную систему ценностей вряд ли удастся. В обоих случаях у граждан формируется негативная идентичность [Эриксон, 2006. С. 99], при которой индивид не может полностью пройти процесс идентификации, а ценностная ориентация общества становится деструктурированной.
На современном этапе процесса формирования новой идентичности российских граждан пережить и принять свое историческое прошлое, вписать его в новую структуру собственной идентичности является важной и непростой задачей. Однако стратегия конструирования фигуры вождя как «злого гения», используемая на федеральных каналах, не позволяет сделать этого. Образ сверхчеловека, демонические способности и демонические зверства которого не поддаются логическому объяснению, в основе своей нерационален. Все это приводит к тому, что историческое прошлое, транслируемое с экранов телевизоров, начинает восприниматься не как материал для анализа и осмысления, а как эмоция.