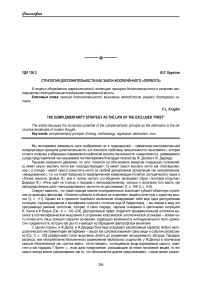Стратегия дополнительности как закон исключённого «первого»
Автор: Круглов В.Л.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается гуманистический потенциал принципа дополнительности в качестве альтернативы деструктивным тенденциям современной мысли.
Принцип дополнительности, мышление, методология, регресс, деструкция, человек
Короткий адрес: https://sciup.org/14082879
IDR: 14082879 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Стратегия дополнительности как закон исключённого «первого»
Мы постараемся развернуть свои соображения не в традиционной - суммативно-инструментальной интерпретации принципа дополнительности, а в плоскости проблемы немысленности «мыслимого», которая отчасти созвучна в аберрации современной рефлексии вопросу мысленности «немыслимого», развиваемого у ряда представителей так называемой постметафизики благодаря творчеству Ж. Делёза и Ж. Деррида.
Решение указанного движения, по сути, покоится на обосновании инверсии следующих положений: а) имеет смысл мыслить нечто как «несуществующее»; б) имеет смысл мыслить нечто как «бессмысленное»; а отсюда - имеет смысл осмыслить нечто за скобкой дискурсивной артикуляции как непроявленное, «невыраженное», т.е. на голой поверхности квазипричинной коммуникации (понятие эзотерического языка в «Логике смысла» Делёза Ж.) или в топосе чистого «со-общения» (всплывает образ «почтовой открытки» Деррида Ж.): «Речь идёт не столько о прорыве к непосредственному, сколько о полагании того места, где непосредственное дано «непосредственно» как нечто не-достижимое» [1, с. 168 ; 2, с. 5-6 ].
Следует заметить, что такая позиция вполне последовательно исключает субъект-объектную стратегию из арсенала философа: «Понятия субъекта и объекта не позволяют подойти вплотную к существу мысли» [3, с. 111 ]. Однако же в горизонте подобного исключения обнаруживает себя ещё одна деструктивная интенция, спровоцированная в метафизике прошлого столетия еще М.Хайдеггером, - мы имеем в виду его программную ревизию онтологии, которая, в свою очередь, черпала основание в критических интуициях И. Канта и Ф.Ницше [См.: 4, с. 142-224 ]. Деструктивный пафос создателя фундаментальной онтологии вылился в постметафизическом мышлении в устранение классической онтологической установки - всякая онто-логика есть лишь принцип сокрытия основания, задающего возможность интенционального поля «данности» предметности, которую как раз-то и выводят из обращения философской аналитики.
С одной стороны, и Ж.Делёз, и Ж.Деррида блестяще вскрывают регрессивный характер любого методологического инструментария метафизики - смысл как соприкосновенная грань вещи и события регрессивно [Ср.: 5, с. 100 ] развёртывает топос мышления, вплоть до соединения несоединимого, абсурда. Парадокс регресса, или неопределенно-бесконечного размножения вербальных сущностей, у Ж.Делеза в логическом смысле обозначенный как «синтез имён», «есть-говорить, поглощаемые вещи-выражаемый смысл», известен и как парадокс Г.Фреге: «…если дано предложение, указывающее на некое положение вещей, то его смысл всегда можно рассматривать как то, что обозначается другим предложением», «серия может регрес- сировать бесконечно, чередуя реальное имя и имя, обозначающее данную реальность» (курсив мой. - В.К.) [1, с.45-48; 55; ср.: 6, с.97]. Проекции этой идеи в анализ социокультурного пространства популярны и у других представителей «постмодерна»: достаточно вспомнить, к примеру, такое понятие (в частности, Бодрийя-ра Ж.), как «имплозия», которое наряду с «орбитальностью» означает способ функционирования симулятив-ных моделей ценностей в культуре, а именно - «впечатывание» в пустую форму («вымаранную» забвением своих первоначальных целей и истоков) симулякра [Ср.: 7, с.333] всех иных моделей в орбите их соприкосновения; в широком смысле слова имплозия выражает регрессию к нулевому состоянию («нулевой степени») смысла или существования предметов культуры - у самого же Бодрийяра метафорой имплозии является выражение «катастрофа смысла».
С другой стороны, именно в молчаливой невыраженности мысли они вскрыли проблему ремиссии смысла - методологического вакуума в попытках выражения Другого, который заполнили игрой деконструкции и логикой нонсенса: «Если мышлению надлежит исследовать виртуальное до глубины его повторений, то воображению - постигать процесс актуализации в его повторах и откликах. Воображение - личинка сознания, беспрерывно переходящая от науки к мечте и обратно - пронизывает сферы, порядки и уровни, сносит перегородки; соразмерное миру, оно направляет наше тело и вдохновляет душу, постигая единство природы и духа» [7, с.268 ]. Недаром и вариации стратегии дополнительности, которые осуществляет Ж. Деррида в рамках differance, - замещение пустого места как восполнение недостатка-изъяна «начала», «возмещения» отсутствующего, - неизбежно оборачиваются методологическим регрессом открытой к извечному повторению игры цепи дополнений-замещений-повторов: «В этой временной протяженности differance может быть названа игрой следов. Это - след, не принадлежащий более горизонту бытия, но в котором, напротив рождается смысл Бытия; это игра следов или differance, не имеющая смысла и не нечто; игра, которой не принадлежит ничто. Здесь невозможно обнаружить никакой опоры. Нет никакой глубины и пределов у безграничной шахматной доски, где в игру вовлечено само Бытие» [8, с.151 ; ср.: с.130 ]. Идее Ж.Деррида об овреме-нении «возможности-невозможности» дополнения (то есть одно-пост-временной связки-грани возможного и действительного) небезынтересно противопоставить размышления одного из инициаторов принципа дополнительности в научном мышлении, В.Гейзенберга: «…Однако работа Бора, Крамера и Слэтера содержала уже существенную черту верной интерпретации квантовой теории. С введением волны вероятности в теоретическую физику было введено совершенно новое понятие. Она означала нечто подобное стремлению к определенному протеканию событий. Она означала количественное выражение старого понятия «потенция» аристотелевской философии. Она ввела странный вид физической реальности, который находится приблизительно посредине между возможностью и действительностью » (курсив мой. - В.К.) [9, с.18 ].
Но именно на перепутье смысловой ремиссии и методологического регресса течения мысли «оживает» старая метафизическая проблема природы, неизмысленности истока мышления (то бишь метафизической и научной рефлексии), которую, как оказалось, невозможно исключить ни деструкцией, ни ревизией какой-либо традиционной методологической платформы. По своей исконной природе метафизика обнаруживает, вскрывает, проясняет «бытие» как вещей, так и людей, за гранью непосредственно пространственнотелесного проявления и взаимодействия, отсюда и метафизическая проблема «непосредственно данного, или очевидного». Сравните: «…метафизичность понятий и представлений свойственна любому человеку, поскольку он учитывает в своем сознании и деятельности не только то, что непосредственно перед ним расположено. Метафизично в этом смысле любое человеческое сознание, наделенное хотя бы в минимальной степени памятью и предвидением, воображением и сопониманием бытия (со-бытия) других людей. Подобная метафизичность характерна и для многих социально-гуманитарных дисциплин, вынужденных в своем исследовании пользоваться моделями непосредственно не данных человеческих и социальных качеств и реконструировать в своих гипотезах и теориях человеческие действия и взаимосвязи» [10, с. 37].
Иначе в точке «децентрированного центра» субъекта (Делёз Ж.) ремиссионный вакуум смысла оказывается дополнителен всякой методической интенции: зарождение импульса смысла, момент осмысления, фактически актируется первичной позицией заявителя методической установки, локус которого, собственно, онтическое расположение субъекта, центр и периферия рефлексии, - не именуется, но определяется, каждый раз сообщается с «за-» явленностью горизонта интенционального поля мыслителя [1, с. 121-127]. Тем самым методическая регрессия смысла всякого дискурса не исключает и отрицает, но размыкает границы его воспроизводства, обнаруживая в дополнительности не столько инструментальный момент, сколько антропологический срез ситуации. Хотелось бы отметить, что здесь речь идёт не о подмене логического трансцендентальным либо манифестацией субъекта мысли, а о смысловой структурированности коммуникативного слоя мышления, т.е. ситуации сообщения человека и мира: «Индивидуация как индивидуирующее различие - до-Я, до-мыслящий субъект в той же мере, в какой особенность как дифференциальная детерминация доиндивидуальна. Мир безличных индивидуаций и доиндивидуалъных особенностей - таков мир Безличного, или «их», несводимый к повседневной банальности; напротив, это мир, где готовятся встречи и пересечения, последний лик Диониса, истинная природа глубинного и бездонного, превосходящая репрезентацию и вызывающая симулякры» (курсив мой. – В.К.), [7, с. 332–333]. Мышление всегда имеет шанс начать с «нуля», к которому свели, но не исключили, а лишь разомкнули, проблему человека наследники фундаментальной деструкции метафизики. Известный тезис постмодернизма о «смерти человека» по сути представляет собой развитие вариаций ницшеанского «слишком человеческого»: «…мы не ищем в Ницше проповедника перемен или выхода за какие-то пределы. Если и существует автор, для которого смерть Бога или полное падение аскетического идеала не имеют значения, раз за ними стоят фальшивая глубина человеческого, дурная вера и озлобленность, - так это Ницше. Он следует своему открытию всюду – в афоризмах и стихах, где не говорят ни человек, ни Бог, в машинах по производству смысла и разметке поверхностей Ницше заложил основу эффективной идеальной игры» [1, с. 96; см. также: 11, с. 5–32].
Поэтому, с усилением претензий автономной исключительности любой познавательной стратегии, в методологии всегда имеет «место» беспринципность любого «принципа» или то, что мы назвали бы законом исключённого первого. Таковой и оформляет ситуацию дополнительности - константной возможности дополнения, - в которой стратегия исследования соразмерна исходной немысленности факта самой мысли в бесконечно-регрессивном и безначально-беспринципном акте смыслового пространства встречи человека и мира.