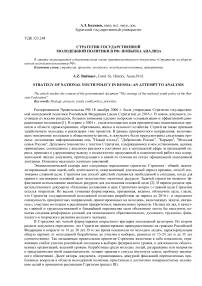Стратегия государственной молодежной политики в РФ: попытка анализа
Автор: Бадмаев А.З.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (34), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется содержательная часть правительственного документа «Стратегия государственной молодежной политики РФ».
Стратегия, проекты, молодежь, молодежная политика, приоритеты
Короткий адрес: https://sciup.org/142142362
IDR: 142142362 | УДК: 323.248
Текст научной статьи Стратегия государственной молодежной политики в РФ: попытка анализа
Распоряжением Правительства РФ 18 декабря 2006 г. была утверждена Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации (далее Стратегия) до 2016 г. В новом документе, состоящем из восьми разделов, большое внимание уделено вопросам «социализации и эффективной самореализации молодежи»[1]. В стране с 2005 г. стала воплощаться идея приоритетных национальных проектов в области здравоохранения, образования, жилья и сельского хозяйства. Стратегия также призвана задействовать молодежь в реализации этих проектов. В рамках приоритетного направления, включающего вовлечение молодежи в общественную жизнь, в документе были предусмотрены следующие проекты: молодежная информационная сеть "Новый взгляд", "Доброволец России", "Карьера", "Молодая семья России". Детальное знакомство с текстом Стратегии, содержащимися в нем установками, целями, принципами, соотнесенное с анализом реального состояния дел в молодежной сфере за прошедший период, приводит к удручающему выводу о недостаточно продуманной и компетентной работе над содержательной частью документа, претендующего в какой-то степени на статус официальной молодежной доктрины. Позволим несколько эскизных замечаний.
Энциклопедический словарь дает следующее определение стратегии. Стратегия - общий, недета-лизированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели. Стратегия как способ действий становится необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели [2]. В первом разделе правительственного документа «Основные положения и цель Стратегии» вопрос о главной цели Стратегии остался открытым. Но весьма туманная формулировка, призванная, видимо, обозначить цель, гласит, что Стратегия государственной молодежной политики разработана на период до 2016 г. и определяет совокупность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных национальных проектов. На наш взгляд, в качестве главной и труднодостижимой в ближайшей перспективе цели объективно могла бы выступить попытка создания комфортных условий для полноценного образовательного, духовного, трудового, физического и творческого развития молодого человека.
В Стратегии нет четкой формулировки возрастного критерия молодежной категории. Во втором разделе документа определено, что Стратегия ориентирована преимущественно на граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. В то же время показатели по молодым людям, характеризующие общую картину от молодежной безработицы до участия в выборах, разнятся от 15-24 лет и до 35 лет соответственно. Так называемые предпосылки принятия Стратегии включили в себя показатели, отражающие слабое участие российской молодежи в выборах федерального уровня, в деятельности общественных организаций, высокий уровень безработицы среди молодых людей, раздражение или неприязнь к представителям иной национальности, потерю прежнего статуса института семьи, проблему жилищного обеспечения. Далее авторы документа, ограничившись дежурной фиксацией перечисленных проблемных вопросов в области молодежной политики, приступили к достаточно поверхностному изложению целей и принципов реализации Стратегии (раздел III).
В тексте раздела говорится, что государственная молодежная политика (далее - ГМП) разрабатывается и реализуется в Российской Федерации на основе следующих принципов: выделение приоритетных направлений; учет интересов и потребностей различных групп молодежи; участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики; взаимодействие государства, институтов гражданского общества и представителей бизнеса; информационная открытость; независимость оценки результатов Стратегии. Думается, что такие принципы как «выделение приоритетных направлений» и «участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики» не обязательно выделять в отдельные пункты, а логичней было бы объединить в одно целое. Сложную ситуацию отражает принцип партнерских отношений государства, институтов гражданского общества и бизнеса. Практика показывает, что сама молодежь (даже представленная ангажированными молодежными объединениями) не имеет полноценной возможности для взаимодействия с ними или не владеет технологиями социального партнерства. Государство, на наш взгляд, в лице молодежных ведомств и организаций отнюдь не обеспечивает полнокровное включение подростков и молодежи в деятельность по развитию и налаживанию отношений с институтами гражданского общества: бизнесом, политическими партиями, некоммерческими организациями и фондами, религиозными организациями, средствами массовой информации и т.д.[3]
Необходимо отметить, что в разделе цель государственной молодежной политики «развитие и реализация потенциала молодежи» зачастую дублируется в следующем, IV разделе «Приоритетные направления государственной молодежной политики». Этот раздел в рамках ГМП нацелен на вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития; развитие созидательной активности молодежи; интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
Здесь к категории молодых людей (сироты, жертвы насилия и др.), испытывающих проблемы «полноценного интегрирования в общество», отнесены также представители коренных и малочисленных народов. Сегодня из 40 коренных малочисленных народов на грани исчезновения находятся 18. По мнению президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России С. Харючи, минимальная для выживания численность нации - не менее 7 тысяч человек, 12 северных национальностей насчитывают меньше 2 тысяч человек, 7 - меньше 1 тысячи. Например, кере-ки, живущие на Чукотке, насчитывают лишь 8 человек, алюторцы представлены 12 жителями Корякии. Энцев на Таймыре проживает 237 человек [4]. На VI съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ обсуждались проблемы сохранения исчезающих народов, в том числе высокая детская смертность. Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) РФ Александр Суринов был поражен полученными цифрами по переписи населения 2002 г. в отношении Эвенкии - ее население испытало колоссальное сокращение с 18 до 14 тысяч жителей [5]. В Туре (Эвенкия) на конференции преподавателей родного языка и основ национальной культуры коренных сибирских народов отмечалось, что в нескольких малых селах Эвенкии родной язык не преподается, так как не решен кадровый вопрос в обеспечении школ учителями словесности [6]. Усложняет сложившуюся ситуацию отсутствие на федеральном уровне преемника Госкомсевера и Министерства национальностей, ранее занимавшихся проблемами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Следует подчеркнуть, что в основе всех хозяйственно-экономических преобразований Севера (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток) лежала экономическая целесообразность, определяемая общегосударственными интересами. Освоение любой ценой этих территорий, представлявших собой источник богатых сырьевых ресурсов, являлось целью всех крупномасштабных программ. Такая экономическая политика привела к известным последствиям - разрушенная среда обитания населения во многих регионах, истощение ресурсов, деградация традиционной экономики, социальной сферы, культуры. Главную опасность для традиционного хозяйства аборигенных народов на современном этапе представляют промышленные предприятия. Вместе с тем невозможно совсем отказаться от промышленного строительства в местах проживания малочисленных народов. В связи с этим выдвигается государственная задача минимизации отрицательных последствий промышленного освоения. Поэтому, на наш взгляд, самой болезненной и первостепенной задачей представителей этих народов является отнюдь не «полноценное интегрирование в общество», а элементарное биологическое выживание и сохранение этноса. Гораздо важнее и острее для них стоят вопросы сохранения национальной самобытности и родного языка, антропогенного (промышленного) влияния на территории их проживания и традиционного природопользования, равновесия экосистемы. В то же время, например, в Ненецком округе наблюдается тенденция возвращения многих ненцев, которые переехали в Центральную Россию в 1990х гг. По предварительным данным всероссийской переписи 2010 г., среди ненцев фиксируется высокий демографический прирост, но существует грань в 50 тысяч человек, после которой народ перестает счи- таться малым. Это в ближайшей перспективе выпячивает проблему сохранения социальных льгот от государства, если показатели прироста сохранят свою устойчивость [7].
Раздел «Приоритетные направления государственной молодежной политики» также предусматривает внедрение в жизнь нескольких вышеупомянутых проектов. Одной из основных целей проекта "Новый взгляд" является «развитие механизмов и форм трансляции информации, актуальной для жизни молодежи, в молодежные аудитории». Несмотря на расплывчатость формулировки, допустима мысль, что в эпоху передовых информационных компьютерных технологий (далее - ИКТ) эта цель представляется надуманной. Сейчас само понятие периферии постепенно исчезает, благодаря Интернету и набирающей обороты компьютеризации. Более актуальным представляется вопрос внедрения новых технологий на еще неосвоенных и отдаленных от центра территориях страны. Существуют и другие вопросы в сфере ИКТ, требующие комплексного решения. К примеру, в Красноярском крае, где по оснащенности компьютерами школы приблизились к общероссийскому показателю, существуют проблемы плохого качества связи, которую обеспечивает региональная компания-монополист, и отказаться от ее услуг школа фактически не может. Более 300 школ края, в основном в северных районах, подключены к спутниковым каналам. В случае сбоя работы орбитального спутника школы получают Интернет в период, когда учебный день уже закончен. Кроме того, небольшие начальные школы на 20-30 учеников Интернетом пользуются мало, но как юридическое лицо платят гораздо больше, чем частные пользователи [8]. Дальше всех в решении подобных вопросов ушел Татарстан, власти которого из республиканского бюджета выделили 450 млн. руб. на создание проекта «Электронное образование». В 2010 г. до начала учебного года власти приобрели 10,5 тысячи компьютеров, почти 13 тысяч учителей получили в безвозмездное пользование ноутбуки. В 2011 г. планируется вручение персонального портативного компьютера каждому школьному учителю. Многие школы подключились к оптоволоконным каналам связи, тем самым обеспечив себе качественный и надежный Интернет. В 375 школах республики предполагается установить около 2 тысяч точек беспроводного доступа к глобальной Всемирной сети [9]. По нашему мнению, проект «Новый взгляд» испытывает дефицит основополагающих целей для молодежной аудитории. Главная цель должна содержать постулат о конкурентоспособности в современном мире. В первую очередь использование ИКТ должно быть нацелено не на получение «актуальной информации» (что тоже важно) молодежью, а на приобретение дополнительных знаний. Активное использование электронных образовательных ресурсов усилит преподавание всех предметов базисного учебного плана, позволит привлечь большее количество одаренных школьников к участию в дистанционных олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Следующая цель проекта заключается в развитии положительного отношения молодежи к позитивным (курсив наш. - А.Б. ) ценностям российского общества. Любой словарь трактует ценности как социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том , что такое добро, справедливость, патриотизм и т.д. В данном случае, на наш взгляд, разумнее рассуждать о культивировании подобного отношения к общечеловеческим ценностям. Иначе напрашивающаяся двусмысленность трактуемой цели подразумевает возможное существование непозитивных ценностей, свойственных российскому социуму. В качестве иллюстрации приведем слова председателя исполкома «Российского конгресса народов Кавказа» А. Тоторкулова: «Я был сегодня на встрече с русскими националистами, которые говорили о кавказском хулиганстве, выставив его как отличительную особенность культуры Кавказа. Я спрашиваю, русскую семью пьяниц, которая живет у нас на первом этаже и каждый день устраивает дебош, мне тоже русским национальным достоянием считать? Я же по этим людям не сужу о русской культуре» [10].
Проект с обнадеживающим, на первый взгляд, названием «Доброволец России» при подробном ознакомлении продемонстрировал уклон отечественных составителей в сторону западных образцов, делая ставку на волонтерское движение. Проект ставит своей целью «мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке». В связи с этим два важных замечания. Во-первых, обескураживающим является тот факт, что отечественными составителями Стратегии абсолютно игнорируется колоссальный советский опыт в использовании творческой деятельной инициативы молодежи, проявленной в первую очередь в создании студенческих строительных отрядов . Именно трудовая студенческая молодежь добровольно и с энтузиазмом обеспечивала огромный вклад в решение народно-хозяйственных задач, стоящих перед государством, оказывая действенную помощь в «решении проблем людей» в масштабах страны. Нельзя отрицать, что деятельность студенческих отрядов способствовала формированию взаимных отношений между молодыми людьми на принципах коллективизма, настоящего интернационализма, взаимопомощи и ответственности в трудных условиях, воспитанию гражданственности и патриотизма нескольких поколений молодежи. Молодые люди на практике приобретали навыки организаторской деятельности, необходимый опыт руководства массовыми коллективами, учились чувству ответственности. Поэтому использование опыта студенческих строительных отрядов во многом обязательно при подготовке или изменении нормативно-правовой основы осуществления молодежной политики (не забывая излюбленных авторами документа ссылок на «тенденции социально-экономического развития»), а также в целях воспитания лучших нравственных и патриотических качеств у современной молодежи. Во-вторых. Не оставляет ощущение потери авторами проекта временно-пространственных связей. Думается, что это чрезвычайно трудная задача - мотивировать людей на добровольческий (подразумевающий бескорыстный) труд в решении чужих проблем не только в стране, но и за рубежом, учитывая общеизвестный низкий жизненный уровень подавляющего большинства молодых россиян и отсутствие внятно прописанного механизма финансирования этого проекта. Западные страны в отличие от России имеют финансовые ресурсы на поддержку подобных проектов. Например, программа «Европейская волонтерская служба» предусматривает выделение средств на карманные расходы, питание, проезд волонтера и символическую оплату жилья [11]. Проект «Доброволец» адресован молодым людям только в возрасте от 14 до 25 лет. Таким образом, установленный возрастной ценз в этом проекте в какой-то степени дискриминирует наиболее подготовленную морально и физически молодежную когорту от 25 до 30 лет. Вне сомнений, в стране и республике известны прецеденты бескорыстного участия в организации общественных работ и добровольческого труда молодежи. В частности, это нашло отражение в деятельности различных трудовых, экологических и «зеленых» десантов по уборке мусора на территории побережья Байкала, городского пляжа, старого городского кладбища. Наиболее последовательно в этом направлении с 2001 г. проявил себя коллектив «Молодежного театра» под руководством главного режиссера А.Б. Баскакова. Артисты театра являются главной составляющей Международной Байкальской береговой волонтерской службы [12].
Проекты «Карьера», «Молодая семья», «Команда», «Успех в твоих руках» содержат привычный набор предложений, нацеленных на самоопределение молодежи на рынке труда, укрепление института молодой семьи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества, продвижение талантливой молодежи и т.д. Вновь остается неясным возрастной критерий участников проекта. Проект «Карьера» адресован «молодым людям от 14 до 30 лет, участникам рынка труда». Возникает логичный вопрос - молодые люди 30-35 лет уже не являются участниками рынка труда? На наш взгляд, в каждом проекте целесообразнее было бы для достижения поставленных целей все-таки ставить решение задач , а не подменять их аморфными и невнятными определениями, такими как «основными видами работ по реализации указанного направления», «будут реализованы разработанные мероприятия» и т.д.
Что касается механизма реализации Стратегии (пятый раздел), то здесь авторы ушли в непревзойденное словесное камлание. Весьма затруднителен для понимания читающего раздел, носящий характер благих пожеланий. Процитируем. «Для достижения целей настоящей Стратегии требуется внедрение механизмов прямого взаимодействия с молодежью, обеспечивающих высокую результативность и оперативность в управлении процессами, проистекающими в молодежной среде». Никаких определений, ключевых характеристик таких механизмов в тексте не представлено. Нами осознается, что в целом в Стратегии в качестве основного механизма реализации и финансирования мероприятий данной сферы назван проектный подход. Но, как показывает практика, применение проектного подхода, подразумевающего формирование системы федеральных и региональных молодежных проектов, понятных и востребованных в молодежной среде и обществе, пока не позволяет говорить об эффективности отказа от программно-целевого механизма реализации молодежной политики. Кстати, оба подхода зачастую дублируют друг друга и во многом ориентированы на прямое вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и общегосударственных задач. Эти направления слабо действенны в реальной жизни. Вызывает сомнение тот факт, что сама молодежная общественность в республике знает о заявленных проектах, не говоря об их активной реализации.
Раздел «Результаты реализации государственной молодежной политики и оценка ее эффективности» включает следующее категоричное утверждение: «главным результатом реализации Стратегии должны стать улучшение положения молодежи в обществе и , как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие страны». Даже если исходить из предложенного авторами Стратегии количественного критерия, ни по одному пункту не будет утешительных (пусть и субъективных) цифр. Это касается здоровья молодежи, получения ею качественного образования. За прошедших четыре с лишним года не наблюдается повышения деловой, предпринимательской активности молодежи, уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества, увеличения числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти всех уровней. Хотя автор и не склонен драматизировать эти показатели. Значит, рекомендованный в декабре 2006 г. федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации документ (Стратегия), предлагающий учитывать его положения при принятии мер по реализации государственной молодежной политики, не имел, мягко говоря, достаточной силы и был малоэффективен.
Итак, представляется, что авторы Стратегии стремились соответствовать конъюнктуре политического момента, связанного с внедрением в стране идей приоритетных национальных проектов. На принятие такого «сырого» документа повлияли скорее не невнимательность соответствующих служб, а общая недооценка молодежной политики со стороны российского правительства, находящегося в сиюминутной эйфории от внешних успехов. Этот фактор сказался на том, что некоторые положения, цели и задачи Стратегии носят характер благих пожеланий. Кроме того, в Стратегии абсолютно не учтен выстраданный и колоссальный советский опыт реализации государственной политики в отношении молодежи, сопряженный как раз с общегосударственными задачами. Правительственный документ выиграл бы от постановки перед управленцами четких целей и поэтапного (не столь растянутого) планирования реализации проектов, устранив образчики лозунгового мышления. На наш взгляд, Стратегия, рассчитанная на столь продолжительный период - до 2016 г., требует тщательного, вдумчивого, профессионального (с участием специалистов и с учетом выстраданного опыта) подхода, уточнения положений Стратегии, механизмов ее реализации. Избегая расплывчатых и казенных формулировок. И главное дополнение. Все-таки будет справедливым, на наш взгляд, нацелить приоритеты Стратегии не на набившую оскомину «успешную социализацию и эффективную самореализацию молодежи», а на сохранение физического здоровья и культивирование нравственных принципов человеческого общежития (что чрезвычайно актуальное сегодня) и качественное образование молодых людей. Выполнение этих условий позволит в конечном итоге обеспечивать конкурентоспособность России, укреплять ее национальную безопасность. Стратегия, претендующая на статус государственной доктрины, как нормативный документ (пусть даже и рекомендательного характера) должен представлять собой стройную логическую конструкцию, предусматривающий ключевые понятия по обязательствам государства и по взаимной ответственности сторон, где каждый из перечисленных пунктов является необходимым условием претворения молодежной политики в жизнь.
Несомненно, что в «Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации» (2006) был сделан упор на понимание молодежи как равноправного субъекта выработки и реализации молодежной политики, делалась ставка на субъектность молодежи в общественно-политической деятельности общества. Но такой подход к пониманию молодежи пока недооценивается, на наш взгляд, самим федеральным центром, хотя он и определяет основные направления формирования и развития молодежной политики. Поэтому важнейшей проблемой властных структур на современном этапе является не декларация стратегий, якобы соответствующих принципам формирования гражданского общества в стране, а реальные шаги по усилению роли молодежи, осознанию ею собственной значимости и нужности в деятельности государства, и не только на поприще молодежной политики.