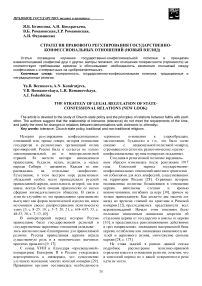Стратегия правового регулирования государственно-конфессиональных отношений (новый взгляд)
Автор: Безносова Я.В., Кондратьева А.Н., Романовская В.Б., Романовская Л.Р., Федюшкина А.И.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 (38), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению государственно-конфессиональной политики и принципам взаимоотношений конфессий друг с другом. Авторы полагают, что отношения толерантности (терпимости) не соответствуют требованиям времени и обосновывают необходимость изменения отношений между конфессиями с «толерантных» на «доброжелательные».
Толерантность, государственно-конфессиональная политика, традиционные и нетрадиционные религии
Короткий адрес: https://sciup.org/142233703
IDR: 142233703
Текст научной статьи Стратегия правового регулирования государственно-конфессиональных отношений (новый взгляд)
История регулирования конфессиональных отношений или, проще говоря, история отношения государства и религиозных организаций полна противоречий. Россия была и остается не только многонациональной, но и многорелигиозной страной. Ее жители исстари исповедовали православие, буддизм, ислам, иудаизм, а малые народы Сибири - шаманизм. Каждая из них распадалась на отдельные «конфессии». Естественно, в этом пестром море религиозных убеждений особое место принадлежало русской православной церкви, деятельность которой, так или иначе, всегда была связана практически со всеми сферами жизнедеятельности общества. В связи с этим не случайно то, что православное христианство выступает как форма политической идеологии, имея источником своего распространения политическую элиту [3, с. 8-25; 19, с. 5-7; 20; 21, с. 634-637; 33, с. 48-53; 38, с. 7-13; 40].
В императорский период истории России православие было государственной религией и государственные церковные отношения складывались исключительно благоприятно для православной религии. Русская православная церковь играла существенную роль и в экономически значимых проектах прошлого [9; 17].
С конца XVIII в. благодаря «просвещенной» императрице Екатерине II в России утвердилась веротерпимость к иноверцам, что существенно улучшило положение многих жителей империи [29]. Правящими кругами осознавалась необходимость терпимого отношения к старообрядцам, магометанам, буддистам и т.п., что было тесно связано с национальной политикой монарха, стремившегося сплотить разноэтнические и разноконфессиональные группы имперских подданных.
Ситуация в религиозной политике кардинальным образом изменилась после революции 1917 года. Советский период государственноконфессиональных отношений наполнен трагически ми событиями для всех конфессий, существовавших на территории России [28]. Страницы истории, посвященные политике большевиков в отношении церкви, наполнены слезами и кровью новомученников, погибших за веру [30], причем не только православную. Как когда-то две тысячи лет назад во времена гонений на христиан в Римской империи [22], преследовались представители всех вероисповеданий. Начало этим гонениям было положено знаменитым ленинским декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви [10], и продолжилось революционными действиями в трех направлениях: ликвидация материальной базы церкви, ослабление или ликвидация священнослужи телей и церковного актива, уничтожение святынь церкви [28, с. 173].
Не ставя задачей в рамках данной статьи подробное рассмотрение политико-правовой стратегии власти в отношении религии, отметим, что в советский период не о какой толерантности речи идти не могло.
В 60-70-е гг. XX в. органом, осуществляющим связь правительства с религиозными организациями и контроль над ними был Совет по делам религий при Совмине СССР. Интересно, что активным противником навязывания атеизма стала молодежь из церкви евангельских христиан-бабтистов [27, с. 191], хотя считалось, что «в нашей стране давно уже подорваны социальные корни религии» [15, с. 46].
В годы перестройки было откровенно признано, что навязанный обществу курс в отношении религии имел самые пагубные последствия как для гражданского общества, так и для государства [23, с. 67].
Современный этап государственно-конфессиональных отношений характеризуется провозглаш ением равенства всех вероисповеданий. Действующее законодательство РФ признает за каждым человеком право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 28 Конституции РФ, ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях») [2; 24].
Таким образом, религиозный выбор признан делом самого человека. Это подтверждает и ст. 14 Конституции РФ, устанавливающая светский характер Российского государства и запрещающая устанавливать какую-либо религию в качестве государственной или обязательной [1].
В Преамбуле Закона о свободе совести говорится о признании особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, а также об уважении христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Что же это за «другие» религии? И можно ли признать такие религии как, например, бахаизм и кришнаизм (индуизм вайшнавской традиции) «неотъемлемой частью исторического наследия народов России»? А если нет, то можно ли отказать им на этом основании в уважении со стороны государства? [8].
В научном и политическом дискурсе последних двух десятилетий обострился вопрос о том, надо ли разделять религии на традиционные и нетрадиционные, какие критерии должны лежать в основе этого деления. «Ключевые для этой дискуссии понятия «традиционные религии», обозначающие все религиозные системы, которые исторически унаследованы от прошедших эпох определенным народом, свойственны его духовности, укоренились в быту, культуре, противопоставляются «нетрадиционным религиям», распространившимся в результате миссионерской деятельности проповедников с их исторической родины. Однако нельзя забывать, что реальная картина еще сложнее и многограннее, так как нетрадиционными для некоторых народов могут быть как мировые религии, традиционные для других, так и новые религиозные образования, сравнительно недавно возникшие в среде этого самого народа» [14, с. 17]. Для оценки значимости той или иной религии в жизни общества, степени ее влияния на общественное правосознание, на мировоззрение, существуют определенные практические критерии. Учитывается численность последователей, степень распространенности, признание ее со стороны государства, других религиозных лидеров, для индуизма важна принадлежность основателя религиозной организации к определенной цепи ученической преемственности. История религий не линейна и полна разного рода «революционных» событий. Часто случалось, что авторитет той или иной религии в обществе падал, а другой - возрастал. История позднего средневековья и Нового времени в Европе имеет множество тому примеров. Но, что характерно для большинства религиозных учений независимо от их статуса в обществе, так это пренебрежительное отношение к другим конфессиям. Внутренняя конкуренция в борьбе за паству перевешивает способность к принятию права на существование иных религиозных идей. В одних религиях эта тенденция очень ярко проявляется, в других - в меньшей степени, в единицах -практически отсутствует. О последнем явлении необходимо сказать отдельно.
Термин «толерантность» закрепился в современном политическом дискурсе как носящий позитивную оценку отношения к тому или иному явлению. Хотя, строго говоря, перевод его на русский язык буквально означает «терпимость», что трудно определить как положительную, дружественную оценку. Терпимо, не значит хорошо, а только лишь допустимо, если нельзя иначе. В сравнении с нетерпимостью, с враждебностью, толерантность, безусловно, является прогрессивным явлением в любых отношениях, включая межрелигиозные. Однако возможно и дальнейшее развитие взаимопонимания, основанного на принципах доверия, уважения, интереса, согласия, сотрудничества и т.п. Возможно, в этом направлении и будут двигаться участники межконфессионального диалога в будущем. В дружественного отношения вероисповедных традиций качестве примера к людям разных можно привести
«восточные» религии, одна из которых возникла в недрах индуизма - вайшнавы (в современном мире -кришнаиты, «которые в России и в мире воспринимаются как одно из заметных новых религиозных движений» [6, с. 217], а другая, сравнительно молодая, появилась в Персии - бахай
[16, с. 3]. Религиозно-философские принципы вайшнавизма (кришнаизма), так же как и другой по истокам, месту и времени появления, религии -бахаизма, предполагают высокую степень плюрализма и толерантности ко всем религиозным традициям, что создает благоприятные перспективы для налаживания диалога в многоконфессиональном обществе [8, с. 19].
И кришнаиты, и бахай отличаются высокой степенью толерантности, более того дружественности к другим религиозным традициям, что чрезвычайно важно для межконфессионального диалога как внутри России, так и в мире. В качестве иллюстрации приведем пример частной молитвы православного священника, глубоко уважающего другие религиозные традиции и имеющего дружеские отношения с представителями других религий. «Вознесем молитвы, освободимся от фанатизма и узости, свободные от ограничений нашего малого разума и возлюбим друг друга, невзирая на кажущиеся различия веры, национальности и культуры, - призывает игумен Арсений в Молитве Единого Мира. - Возлюбим Божественную Мудрость, которая является во всех Священных писаниях Мира. Возлюбим всех воплощений Господа, которые приходят в мир, чтобы спасать заблудшее человечество..., возлюбим Господа Кришну, который пришел, чтоб дать миру поток Божественной любви, подарив миру Бхагават-Гиту - Песнь Бога, возлюбим Господа Будду, который проповедовал учение о спасении и дхарме, возлюбим Господа Иисуса Христа, который открыл врата в Царство Бога через жертвенную любовь,... возлюбим пророков и явителей Божьих: Авраама, Моисея, Заратустру, Лао-цзы, Конфуция, Мухаммеда, Баба, Бахауллу, которые непрестанно созидают Единый Божественный мир и Симфонию Божественного Единства» [14, с. 307].
Понятно, что подобного рода проповеди не могут провозглашаться с церковных кафедр. Но как пример нового типа отношений, основанных на знании основ учений и практик иных религий, этот пример очень поучителен. На практике же значительно чаще звучат противоположные слова, убеждающие паству осознавать свою исключительность и монополию на познание Божественной истины. Конечно, есть и редкие исключения, которые, как говорится, лишь подтверждают правило [40, с. 3].
Для людей, ведущих светский образ жизни, относящихся к религии лишь как к некой исторической традиции или красивому ритуалу, тем более важно иметь трезвый и незашоренный взгляд. И формироваться этот взгляд может благодаря правильной государственной стратегии, которая должна включать образование (доброжелательная информация о всех религиях, имеющих место в России), воспитание (этическое, культурное, патриотическое, наконец, духовное [26, с. 161]), законодательство и правоприменение. Вряд ли верно связывать патриотическое воспитание с православной верой [34, с. 6-9]. Очевидно, что российский гражданин, имеющий иное вероисповедание, может быть не меньшим патриотом своей страны. Равно как и иначе: человек, причисляющий себя к православным, может вовсе не быть патриотом. Наверное, монархистам-патриотам надо смириться с мыслью, что идеологема «православие, монархия, народность» уже потеряла свою актуальность, и перестать презирать представителей нетрадиционных конфессий, смеясь над их одеждами, прическами, песнями и молитвами.
Реализация новой стратегии может идти разными путями: правотворческим [5, с. 28], правообразовательным, правореализационном и др. Но центральным направлением любого важного начинания является информация о нем - Знание, знание с большой буквы, а не просто упоминание в средствах массовой информации. Задача должна быть поставлена шире: формировать правосознание школьников, студентов, российских граждан параллельно с формированием или «наполнением», если можно так сказать, общей духовности населения [26, с. 161].
Конечно, полнота знаний не может быть достигнута вне рамок той или иной традиции, однако этого и не нужно ожидать [12, с. 146-152; 13, с. 48-53; 35, с. 950-956; 36, с. 70-86; 37, с. 13-19; 39, с. 47-66; 4, с. 11-32; 31, с. 62-81; 33, с. 107-108]. Школьный или вузовский курс «Основы религиозной культуры» или иной курс с той же направленностью мог бы послужить хорошей основой воспитания религиозной толерантности, как минимум. В этом вопросе роль государства, государственной образовательной политики переоценить невозможно.
Изучение трудов представителей канонического права римской католической церкви [18, с. 60], церковного права русской православной церкви [32, с. 25], учений индуизма [7, с. 13], древних ведических знаний [25, с. 99], внесение в учебный процесс специальных дисциплин, направленных на формирование дружественного отношения к разным религиозным традициям [8, с. 18-21], русской религиозной философии права [11, с. 3], все это, несомненно, может способствовать выработке иных мировоззренческих основ, реализации новой стратегии правовой политики в области государственно-религиозных и межрелигиозных отношений.

Список литературы Стратегия правового регулирования государственно-конфессиональных отношений (новый взгляд)
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).Собрание законодательства РФ. -2014. -№ 31. Ст. 4398.
- Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (в ред. от 2 июля 2013 г.) Российская газета. 1997. № 190. 1 октября.
- Альбов А.П., Масленников Д.В., Сальников В.П. Роль традиций философии права в формировании правовой культуры личности.История философии права/Отв. ред. А.П. Альбов, Д.В. Масленников, В.П. Сальников. -СПб.: Юридический институт, 1998.
- EDN: XMKKRN
- Сальников М.В. Национальное и универсальное начала в политико-правовой традиции (теоретико-правовой и аксеологический анализ). Юридическая наука: история и современность. 2013. № 10.
- EDN: STLCAT
- Баранов В.М., Овчинников, А.И. Этнокультурная экспертиза в правотворческом процессе.Государство и право. 2011. № 6.
- EDN: NWEBNL