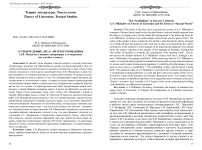"Строительные леса" литературоведения (А.В. Михайлов о теории литературы и ее терминах как "особых словах")
Автор: Исрапова Фарида Хабибовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 1 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной статье впервые ставится вопрос о системе теоретиколитературных взглядов А.В. Михайлова на основе его представлений о том, что теория литературы должна исходить из истории поэтического слова. Автор статьи считает исходным в этом смысле следующий тезис А.В. Михайлова: «слово теории оказывается в глубоком родстве со словом самой поэзии». В центре исследования оказывается мысль ученого о том, что литературная теория возникла как «отщепление от поэтического слова», и теперь ее целью является реконструкция «поэтической памяти веков» в целостности ее исторического развития. Настаивая на том, что «наука о литературе явно выступает продолжением самой литературы», ученый обращает внимание своего читателя на образность ее научного языка. Автор статьи доказывает связь этого тезиса А.В. Михайлова с одной из лекций «Философии языка и слова» Ф. Шлегеля. В процессе анализа некоторых работ А.В. Михайлова делается вывод о том, что ученый намечает границу между движущимся материалом, который исследует наука, и ее статичным терминологическим аппаратом. Разъясняя это несоответствие, он предлагает понимать термины как «строительные леса»: «эти леса стоят, между тем как дом - возводится». Научная ценность представлений А.В. Михайлова о развитии и целостности «сложной рабочей дефиниции» состоит в том, что они обращают читателя и к суждениям С.С. Аверинцева о становлении теоретического слова у Аристотеля («В сущности, именно наличие дефиниций дает нам действительное право называть теоретико-литературные термины “Поэтики” терминами»), и к высказываниям В.И. Тюпы о коммуникативном наполнении дефиниции, о ее ориентированности на адресата.
А.в. михайлов, теория литературы, образность научного языка, термины движения, ф. шлегель, полнота научного выражения, "созидающая критика"
Короткий адрес: https://sciup.org/149127124
IDR: 149127124 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00001
Текст научной статьи "Строительные леса" литературоведения (А.В. Михайлов о теории литературы и ее терминах как "особых словах")
Система теоретико-литературных взглядов A.B. Михайлова на протяжении вот уже двух десятков лет является предметом научной рефлексии в работах целого ряда отечественных литературоведов: Н.С. Павловой, СТ. Бочарова, Л.И. Сазоновой, В. Махлина, ГП. Данилиной, Л.Н. Полубояриновой, ТА. Касаткиной. Моя задача в настоящей статье определяется тем, как А.В. Михайлов представлял себе специфику возникновения и функционирования в истории литературы теоретического слова о ней. Как пишет Л.И. Сазонова, слово было для А.В. Михайлова «главным объектом и героем его герменевтических работ. Внимание к слову, нацеленность на слово, на постижение глубинных закономерностей культуры через слово образует внутренний сюжет напряженнейшего научного исследования, придает связность и концептуальное единство трудам ученого и, преодолевая их внешнюю фрагментарность, соединяет в единый ансамбль, порождая целое смысла». Это целое открывается в трудах ученого в непрерывном движении культуры: «Многовековая история европейской ли-

тературы предстает в фундаментальной концепции А.В. Михайлова как последовательная смена крупных историко-культурных эпох, различающихся своим отношением к слову» [Сазонова 2014, 429].
Характеризуя А.В. Михайлова как теоретика культуры, Т.А. Касаткина высказывается еще более определенно: «<...> Михайлов был человеком одной темы. <.. > Его единственной темой было слово. Все, что мы имеем (все михайловское наследие), - это ее разработка. <.. .> слово, собственно, и выступает как “теория” предмета <...> Сфера слова - сфера бескорыстной встречи, сфера отыскивания не выгоды, но смысла; слово - область, где вещам дано существовать как смыслам <...>» [Касаткина 2013, 126-127].
Направляя внимание читателя работ Михайлова, посвященных взаимосвязям исторической поэтики и герменевтики, на вопрос о том, «какие теоретические традиции питали мысль Александра Викторовича», В. Махлин отмечает: «Ведь “любовь к слову” по своей фактической заинтересованности, по характеру и направленности своего внимания не столько “теоретична”, сколько “практична”: она в принципе реагирует не на „общие слова“, а на событийные подробности исторически всесильного бога деталей <„ >» [Махлин 2006, 531].
Ближе всего к цели моего исследования находится следующее высказывание С.Г. Бочарова об А.В. Михайлове как «лично-стихийном фило-логе-писателе»:
«Настоящему, призванному филологу надлежит быть тоже писателем, литературоведение - это тоже литература. <.. > Вопреки, как представляется, строгим установкам, исходящим от семиотического движения последних десятилетий и состоящим в том, что язык исследователя (“язык описания”) принципиально отличается как научный от исследуемого языка художественного <...>, он склонен был два эти языка сближать и роднить, показывая в замечательной статье “Диалектика литературной эпохи” <...>, как ведущие термины теории и поэтики, и прежде всего названия литературных направлений, происходили из художественной стихии на поворотах литературной истории, и всякое несет на себе печать своего происхождения из этой истории и этого поворота» [Бочаров 2000, 12-13].
Итак, обратимся к статье А.В. Михайлова «Диалектика литературной эпохи» (1983), один из главных тезисов которой состоит в том, что теория литературы должна исходить из истории поэтического слова: «Теория, сопрягающая извечное и зарождающееся, начало и начинающееся, прошлое и настоящее, воспроизводит опыт веков в слове» [Михайлов 1997 а, 16]. Далее автор уточняет и дополняет высказанное суждение: «Такое слово теории оказывается в глубоком родстве со словом самой поэзии, которая не творит свой смысл из ничего <...>» [Михайлов 1997 а, 17]. Так, «<...> Гете мог обдумывать проблемы науки отнюдь не только в поэтической, стихотворной “форме”, но и любые его обдумывания, даже излагаемые по параграфам, еще причастны сфере поэтического слова, истории, на кото- рую поэтическое слово прежде всего направлено» [Михайлов 1997 а, 17].
А.В. Михайлов видел в творчестве Гете стремление сохранить целостность поэтического слова. «Гете лучше, чем кто-либо, сознавал единство поэтического слова. Единство его - в непременное™, с которой рождается слово поэзии. Когда слово достигает непременности и, стало быть, высказывает необходимое и неизбежное, увиденное с той отчетливостью и прозорливостью, с которой видит в самую критическую минуту светлый ум, - тогда слово и подлинно поэтично и подлинно теоретично [Михайлов 1997 а, 17]. Сравним это место из «Диалектики литературной эпохи» А.В. Михайлова с 255-м «атенейским» фрагментом Ф. Шлегеля: «Чем больше поэзия становится наукой, тем больше она становится и искусством. Если поэзия должна стать искусством, если художник должен обладать основательным пониманием и знанием своих средств и целей, препятствий на их пути и их предмета, то поэт должен философствовать по поводу своего искусства. Если же он хочет быть не просто сочинителем и работником, но и знатоком своего дела, способным понять своих сограждан в мире искусства, то он должен стать еще и филологом» [Шлегель 1983,1,305].
В свете этого рассуждения отчетливее звучит один из главных тезисов названной статьи А.В. Михайлова: «Литературная теория <...> возникает как отщепление от целостности поэтического слова» [Михайлов 1997 а, 17]; отсюда вытекает представление ученого о том, что «произведение <.. > обеспечивает преемственность исторической жизни», и потому «литературная теория, возникшая как отщепление от поэтического слова, имеет своей целью, одной из своих задач реконструировать поэтическую память веков, т.е. поэтически осмысленную и постигнутую целостность исторического развития» [Михайлов 1997 а, 18].
Исходя из представления об «отщеплении» литературной теории от поэтического слова, А.В. Михайлов приходит к заключению: «<.. > понятия литературной теории - это <.. > особые слова» [Михайлов 1997 а, 19]. Вновь и вновь создавая «осмысленную целостность протекания исторического процесса», слова литературной теории «должны все время сводить воедино, сопрягать прошлое и настоящее, древнее и новое, опыт и неизведанность. И как поэтическое слово, уходя в глубь истории, не имеет строго проведенных границ с историей, которую отражает и осмысляет, так и слово литературной теории не разграничивается до конца, строго и четко, с поэтическим словом, со словом литературы» [Михайлов 1997 а, 20].
Указывая на известную «тягу к ложной простоте» определения литературы романтизма или барокко в условиях, когда научная теория «все время, беспрестанно обязана отвечать на вопрос, что это?», А.В. Михайлов выбирает «сложные пути»: «Е1ужно полагаться на точность слова, а не на простоту определения. <.. > Такое слово - деловое и точное, оно не гонится за красивостью и эффектностью, но внутренне сближается, однако, со словом поэтическим - со словом поэтическим как пластически воссоздающим явление, восстанавливающим его своими средствами, ставящим его
перед глазами» [Михайлов 1997 а, 27-28].
Здесь «Диалектика литературной эпохи» опять требует обращения к Ф. Шлегелю - на этот раз к фрагменту из седьмой лекции «Философии языка и слова» [Шлегель 1983, II, 430]: «Если философия исходит из ложной видимости необходимого мышления», говорит Ф. Шлегель, то у нее не может быть иного результата, кроме недоразумения, «и она никогда не выберется из этого искусственного сплетения научной иллюзии. Абстрактные выражения, то есть слова умерщвленные и превращенные в пустые формулы или опустошенные, внутренне выхолощенные, лишенные их живого смысла, если только он когда-то был у них, такие выражения нетрудно найти для этого тождественного псевдознания, да они и давно уже найдены» [Шлегель 1983, II, 374].
Выбраться из запутанности научной иллюзии можно только одним способом, считает Ф. Шлегель. Философия жизни нуждается в «гибком живом языке», а не в «окостеневшей системе мертвых формул» [Шлегель 1983, II, 375]. Ф. Шлегель уверен в том, что
«философии, по крайней мере такой, которая исходит из жизни и живого чувства, было бы лучше, более соответствовало бы ей, - вместо того чтобы накладывать на свои мысли и понятия оковы раз и навсегда фиксированной и неизменно определенной терминологии <...>- тщательно избегать всего этого, часто варьировать выражения, использовать все богатство языка в многообразной полноте научного и даже образного и поэтического выражения, даже во всевозможных оборотах разговорного языка, взятого из всех сфер жизни, только чтобы сохранить изложение вполне живым и удерживать его в постоянной смене живого движения, избегая всей той мертвой формальности, которая является как бы врожденной и переданной по наследству склонностью нашего научного разума» [Шлегель 1983, II, 375].
О близости этого тезиса из седьмой лекции шлегелевской «Философии языка и слова» «Диалектике литературной эпохи» А.В. Михайлова свидетельствует следующий фрагмент этой работы:
«Весь язык литературоведения (и других гуманитарных дисциплин) соткан из образов и метафор, которые не предоставлены, однако, в произвольное употребление исследователю, но твердо регулируются всей непременностью той истории (с ее непрестанно совершающимся осмыслением), в которую погружен и поэт, и литературовед. И “течение”, и “направление”, и “метод”, и “стиль”, и т.д. - все основные понятия литературоведения - это образы, приобретающие терминологическое значение в рамках тех движущихся систем самоопределенности, в которые помещает их наука, делая свои понятия предметом пристального внимания» [Михайлов 1997 а, 41].
Вот как А.В. Михайлов описывает традиционную для ученого-фило-лога трудность: «Одно из заблуждений заключается в том, что образный 20
язык считается либо совершенно неприемлемым для науки согласно требованиям научности, либо отчасти приемлемым лишь потому, что пользуется образами сам объект науки - искусство, поэзия, литература». И если исследователю «простительно впадать в язык любимого предмета» [Михайлов 1997 а, 40], то это потому, что у образности научного языка, не допускаемой с точки зрения внешнего подражания объекту изучения, «есть более глубокое оправдание и предназначение. <...> Образ, приходящийся на свое место, именующий явление, позволяющий ему выявиться в четкости его контуров, собственно говоря, перестает быть образом или метафорой; он становится средством опосредованной широким, развернутым историческим знанием интуиции <.. > Наука о литературе явно выступает продолжением самой литературы, поэзии, поэтического слова <.. > поэтому образность ее языка выступает как прямое продолжение той сферы, с которой имеет дело сама поэзия, все того же исторического бытия в его осмыслении» [Михайлов 1997 а, 40^41 ].
Глубина и прочность традиции этого утверждения А.В. Михайлова, непривычного для сознания, подчиняющегося априорно заданным схемам и нормативам, доказывается и его наблюдениями о специфике «Приготовительной школы эстетики» Жан-Поля: «<.. > истинная поэзия, истинное искусство, которым он учит в этой книге, не подвластны никакой последовательно и по пунктам излагаемой теории, покорны лишь беглой смене образов, из которых каждый торопится уступить место другому» [Михайлов 1981, 30]. В этой книге, говорит ученый, теоретическое осмысление отражения литературной реальности немецкой действительности начала XIX в., данное «в понятиях поэтики и эстетики», «неотделимо от образного строя произведения» [Михайлов 1981, 45].
В работе «Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры» (1989) А.В. Михайлов рассуждает о том, каким способом литературовед проявляет свое поэтическое сознание: «У исследователя литературы слово и уходит от себя, от своей поэтически-творческой сущности, отражается и делается вторичным, а вместе с тем и проявляется, проявляет свою сущность <...>» [Михайлов 2006, 24]. А.В. Михайлов уверен в том, что «поэтическое творчество, его функционирование, его теоретическое осмысление гораздо ближе друг к другу, чем обычно представляют себе, когда по инерции решительно размежевывают непосредственность творчества и теорию. Творчество и теория плавно переходят друг в друга, а нередко одно просто заключается в другом или продолжается другим. Всякий творческий акт вместе с тем уже акт своего осмысления, истолкования, а теория - продолжение творчества другими средствами <...>» [Михайлов 2006, 24].
В статье «Проблемы анализа перехода к реализму в литературе XIX века» (1989) А.В. Михайлов обращает внимание на сложность «терминологического плана» для исследователя-литературоведа: ведь «наука имеет дело с принципиально движущимся материалом, который исследует». «Терминологический же аппарат» науки, подчеркивает А.В. Михай- лов, «весьма статичен». И установив это несоответствие движущегося материала науки и ее статичного терминологического аппарата, он продолжает: «Назовем терминами движения те слова, которыми пользуется наука, работающая с движущимся материалом. Систематически построенный и продуманный терминологический аппарат терминов движения - это большое преимущество для науки <...> на деле аппарат терминов движения нужен не науке как собственно знанию <...> - он служит системой таких приспособлений, с помощью которых может осуществляться исследование движущегося, текущего материала литературной истории» [Михайлов 1997 Ь, 43].
Некоторые «термины движения» становятся сегодня предметом специального рассмотрения в михайловедении. Так, Л.Н. Полубояринова обращается к понятию «бидермейера» в трудах А.В Михайлова, цитируя его «Проблемы анализа перехода к реализму...»: «<.. .> бидермейер благодаря органичности своего происхождения и свойственному данному понятию “преимуществу непосредственности” обнаруживает качества “термина движения”, те. “заключает в себе знание, о котором мы еще не подозреваем и в котором не отдаем себе отчета” <...> Бидермейер как “термин движения” был для А.В. Михайлова соотносим с гораздо более широким историко-культурным контекстом, нежели тот, который предполагался в сосредоточенном на одной только литературе исследования Зенгле» [Полубояринова 2015, 126].
Особое внимание «терминам движения» уделяет в своей книге «Историчность литературного произведения в работах А.В. Михайлова» (2007) Г.И. Данилина: «Наука имеет дело с принципиально движущимся материалом, как убежден Михайлов, а ее терминологический аппарат статичен <...>» [Данилина 2007, 210]. И задача науки о литературе состоит в том, чтобы, сохраняя «сложившиеся к сегодняшнему дню понятия» в качестве «необходимой опоры исследования», продумать, как «статичные» теоретико-литературные термины сделать «подвижными» [Данилина 2007, 212]. Говоря о понятиях литературной теории как «особых словах», которые, по Михайлову, «для истории литературы делают то же самое, что поэтическое слово на протяжении веков делает для истории», Г.И. Данилина делает вывод: так они, как пишет ученый, «создают все вновь и вновь осмысленную целостность протекания исторического процесса». Особые слова, таким образом, имеют «не “готовый”, а историчный смысл» [Данилина 2007, 212].
А.В. Михайлов описывает термины как «приспособления, подпорки или строительные леса; они неизбежны, но вспомогательны. Терминологический аппарат литературоведения - речь идет о терминах движения - это все те же строительные леса, которые уберут, когда дом будет построен: эти леса стоят, между тем как дом - возводится, т.е. постоянно находится в движении относительно лесов как неподвижного, статического и заранее “заданного” момента» [Михайлов 1997 Ь, 43].
«Строительные леса» в художественном тексте - это особое явление металитературности, которое А.В. Михайлов в самом общем виде формулирует в своей статье «Роман и стиль» (1982), когда поясняет тезис о романе как «саморефлектирующем жанре», о романе как «критике романа»: «Роман включает в себя свою теорию <.. > Причем теория романа может сколь угодно тесно увязываться с романным действием. Реплики автора по поводу ведения сюжета складываются в особую романную технику в сентиментально-ироническом романе XVIII - начала XIX вв. - это что-то вроде прикладной теории романа» [Михайлов 1997 с, 462-463].
А.В. Михайлов уверен: образ - это не средство и не цель романного слова; и «совсем необязательно заставлять такой мыслительный процесс, который создает роман и в нем запечатляется, как бы замирать на одном уровне образа, отвергая всякую рефлексию, которая привела к созданию этого образа, и всякую рефлексию, которую вызывает сам этот образ» [Михайлов 1997 с, 466]. И если «всякий конкретный роман» есть «свое са-моосуществление» [Михайлов 1997 с, 466], то «рефлексия» в романе - это «не какой-либо внешний момент, который попросту не нужен или остался в нем как нестертый след рабочего процесса. Рефлексия - это такая среда и стихия, в которой и благодаря которой образ действительности в романе только и начинает существовать. Образ весь окружен и пронизан рефлексией, и “прорыв в жизнь” есть результат “самокритики” жанра» [Михайлов 1997 с, 467].
Романная саморефлексия - предмет активного изучения в современном отечественном литературоведении [Зусева-Озкан 2012], [Зусева-Оз-кан 2014]. Одним из первых сказал об этом явлении Ф. Шлегель в своей статье «О “Мейстере” Гете»: «К счастью, это именно одна из тех книг, которые оценивают себя сами и тем избавляют от труда ценителя искусства. И она не только оценивает себя сама, но и сама себя изображает» [Шлегель 1983,1, 324]. А это означает принадлежность романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» к «трансцендентальной поэзии», о которой идет речь в 238-м «атенейском» фрагменте Ф. Шлегеля: «<...> в каждом из своих изображений она должна изображать самое себя и быть повсюду поэзией и одновременно поэзией поэзии» [Шлегель 1983,1, 301-302]. Такая поэзия - «трансцендентальная», «поэзия поэзии», авторефлексив-ная поэзия, метапоэзия - являет собою образец уникального совмещения продолжающегося и уже завершившегося действия, процесса и продукта, деятельности и ее результата.
Итак, выражение «строительные леса литературоведения» свидетельствует о том, что А.В. Михайлов вводит смысл метаструктурности («теория теории») и в науку о литературе, когда говорит о том, что статический термин используется для движущегося литературного материала: «<...> весь процесс культурного развития нужно понять как процесс со своей внутренней логикой, которая и должна выйти наружу в изображении этого процесса и реализовать себя в таком изображении, - при этом, понятным образом, пройдя через целые “леса” вспомогательных понятий, терминов, дефиниций и осуществляя себя одновременно благодаря им и несмотря на них <...>» [Михайлов 1997 Ь, 45].
А.В. Михайлов решает вопрос о том, на каком уровне литературовед, который спрашивает себя: «что такое барокко? что такое маньеризм? что такое классицизм? что такое романтизм? и т.д., и т.д.», ищет для себя ответ: «на уровне ли дефиниции (“обыденной”, или “школьной”) или же на уровне диалектической задачи, в которой предполагается, что такое-то явление истории литературы <...> существует лишь как логический момент целого» [Михайлов 1997 Ь, 45]. И, делая здесь ссылку на Ф. Шлегеля: «Классификация - это дефиниция, содержащая систему дефиниций», А.В. Михайлов восклицает: «Нужно сначала в принципе узнать всю систему терминов движения!» [Михайлов 1997 Ь, 46 ]. Ученый понимает: «Это совсем не удовлетворит любителя “точечного” знания», ведь наука не кончается даже на достаточно развитой и сложной рабочей дефиниции. При этом «более сложная ’’дефиниция" литературной эпохи <...> мало чем напоминает формально-логическую процедуру, а представляет собою такое описание, изображение феномена (эпохи или течения, направления), которое внутренне направлено на 1) развитие, на процесс беспрестанного движения материала; 2) на целое, т.е. на литературный процесс в целом, в котором взгляд исследователя выбирает для себя, в качестве первоочередной, непосредственной задачи, известный отрезок» [Михайлов 1997 Ь, 46-47].
В соответствии с утверждением А.В. Михайлова: «Каким бы конкретным предметом ни был занят литературовед, его идеальным предметом остается ’’вся” литература» [Михайлов 1997 Ь, 47] - особое значение получает мысль С.С. Аверинцева о том, что «отнюдь не всякое осмысленное высказывание, имеющее предметом словесное искусство, есть факт литературной теории» [Аверинцев 1996, 230]. В статье 1986 г. «Литературные теории в составе средневекового типа культуры» он напоминает: «<...> правила экономичного, хозяйственного распоряжения терминологическим запасом требуют, чтобы нормально <...> термины употреблялись возможно строже и ограничительнее» [Аверинцев 1996, 230].
Вслушиваясь в звучание «смыслового центра» «Поэтики» Аристотеля («Трагедия есть подражание действию важному и законченному <.. > производимое в действии, а не в повествовании, и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей») [Аверинцев 1996, 232], С.С. Аверинцев видит здесь дефиницию, где каждое слово «расшифровывается в цепочке цепляющихся друг за друга дефиниций». Возникновение дефиниций, считает ученый, обусловлено самой динамикой «осмысленного высказывания» по поводу поэтического произведения: «Введение терминов тоже требует неукоснительных дефиниций. <...> В сущности, именно наличие дефиниций дает нам действительное право называть теоретико-литературные термины “Поэтики” терминами; ибо термин отличается от бытового слова, непосредственно данного традицией языка, между прочим, тем, что опосредован через наличное или хотя бы подразумеваемое определение. Термин - то, для чего всегда законно по- требовать дефиниции» [Аверинцев 1996, 232-233].
В самое последнее время в отечественном литературоведении активно обсуждается такая сторона дефиниции, как ее адресованность. Вот что пишет В.И. Тюпа в своей работе «Дискурс / Жанр» (2013) о коммуникативной природе теоретических рассуждений: они манифестируют «авто-коммуникативные ’’размышления вслух” (или “на письме”). Однако, не будучи упорядоченной системой дефиниций, разворачиванием аргументации ориентированных на адресата, такой дискурс не представляет собой теоретического высказывания» [Тюпа 2013, 202]. В.И. Тюпа приводит в качестве примера одну из записей В.В. Розанова из его «Уединенного» («Литература вся празднословие») и говорит по этому поводу: «Это не теоретическая дефиниция, это автокоммуникативная реакция неудовлетворенности» [Тюпа 2013, 202].
Исследуя референтную компетенцию теоретического дискурса, ученый приходит к выводу: «Дефиниция по внутренней природе своей отнюдь не автокоммуникативна - она авторефлективна. Давая чему либо выверенное, рефлективными усилиями ’’отредактированное” определение, субъект ранее уже пережил ментальное событие понимания (преодолевающего границу прежнего непонимания или превратного понимания) и теперь средствами аргументации формирует ответное понимание со стороны адресата, а не провоцирует его на произвольную реакцию» [Тюпа 2013,202-203].
Отражая коммуникативный характер теоретического мышления, дефиниции, как полагает В.И. Тюпа, разъясняют предмет теоретизирования «не с позиций реконструируемого опыта, теряющегося в прошлом, а под углом зрения проектируемого, ожидаемого в будущем, предположительного эффекта приложения данной теории, т.е. конституируют перспективу понимания» [Тюпа 2013, 204]. Предполагая это будущее теории литературы производным от той реальности, когда «<.. > слово теории оказывается в глубоком родстве со словом самой поэзии <.. .>» [Михайлов 1997 Ь, 17], мы окажемся на уровне новой, следующей задачи изучения того, как создаются «строительные леса» литературоведения.
Список литературы "Строительные леса" литературоведения (А.В. Михайлов о теории литературы и ее терминах как "особых словах")
- Аверинцев С.С. Литературные теории в составе средневекового типа культуры//Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 228-243.
- Бочаров С.Г. Огненный меч на границах культур//Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 2000. С. 7-13.
- Данилина Г.И. Историчность литературного произведения в работах А.В. Михайлова. Тюмень, 2007.
- Зусева-Озкан В.Б. Историческая поэтика метаромана. М., 2014.
- Зусева-Озкан В.Б. Поэтика метаромана: «Дар» В. Набокова и «Фальшивомонетчики» А. Жида в контексте литературной традиции. М., 2012.
- Махлин В. Уроки обратного перевода (с немецкого)//Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006. С. 525-548.
- Михайлов А.В. «Приготовительная школа эстетики» Жан-Поля -теория и роман//Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981. С. 7-45.
- Михайлов А.В. Диалектика литературной эпохи//Михайлов А.В. Языки культуры. Учебное пособие по культурологии. М., 1997. С. 13-42.
- Михайлов А.В. Проблемы анализа перехода к реализму в литературе XIX века//Михайлов А.В. Языки культуры. Учебное пособие по культурологии. М., 1997. С. 43-111.
- Михайлов А.В. Роман и стиль//Михайлов А.В. Языки культуры. Учебное пособие по культурологии. М., 1997. С. 404-471.
- Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры//Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006. С. 5-224.
- Полубояринова Л.Н. Об одном «термине движения»: понятие бидермейера в трудах А.В. Михайлова//Die frau mit eigenschaften: к юбилею Н.С. Павловой. М., 2015. С. 122-134.
- Сазонова Л.И. Космос смысла. Александр Михайлов: жизнь в слове//Адорно (Визенгрунд-Адорно) Т. Избранное: социология музыки. М.; СПб., 2014. С. 428-433.
- Тюпа В.И. Дискурс/Жанр. М., 2013.
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в 2 т. М., 1983.