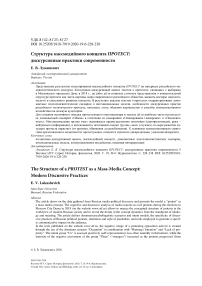Структура массмедийного концепта протест: дискурсивные практики современности
Автор: Лукашевич Елена Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языки и дискурсы СМИ
Статья в выпуске: 6 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты моделирования массмедийного концепта ПРОТЕСТ на материале российского медиаполитического дискурса. Когнитивно-дискурсивный анализ текстов о протестах, связанных с выборами в Московскую городскую Думу в 2019 г., на сайте aif.ru позволил уточнить представления о концептуальной структуре протеста как части картины мира современного российского общества, выявить векторы идеологического и смыслового развития концепта. В результате анализа текстов о протестах охарактеризованы доминантные психолингвистические сценарии и интенциональные модели, особенности дискурсивных практик российского политического протеста; интенции, стиль общения журналистов и способы коммуникативного воздействия на целевую аудиторию. Для создания негативного имиджа протестующего оппозиционера в текстах aif.ru наиболее часто используется доминантный сценарий «Обман» в сочетании со сценариями «Планирование / намерение» и «Неадекватность». Интенциональная группа «мы» оценивается преимущественно позитивно (самопрезентация), реже - нейтрально (информация), а интенсивность негативной оценки группы «они» («чужие») по мере развития ситуации протеста нарастает (от критики, обвинения до разоблачения). К основным коммуникативным стратегиям представления в медиатекстах протестующих относятся стратегия дискредитации, умаления авторитета.
Когнитивно-дискурсивный анализ, массмедийный концепт, доминантные психолингвистические сценарии, интенциональные модели, коммуникативное воздействие, языковая интерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/147220447
IDR: 147220447 | УДК: 81'27 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-6-228-238
Текст научной статьи Структура массмедийного концепта протест: дискурсивные практики современности
Lukashevich E. V. The Structure of a PROTEST as a Mass-Media Concept: Modern Discursive Practices. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2020, vol. 19, no. 6: Journalism, p. 228–238. (in Russ.) DOI 10.25205/18187919-2020-19-6-228-238
Миросозидающая (ориентирующая) функция языка, отмечала Е. С. Кубрякова, позволяет установить довольно «устойчивую коррелятивную связь между тем, что познано, увидено и осмыслено человеком в мире “каков он есть”, и тем, что им поименовано, обозначено и включено в описание» [Кубрякова, 2009. С. 10]. По мнению исследовательницы, концепт представляет собой «оперативную содержательную единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [Кубрякова, 1996. С. 90].
Соответственно, возможно моделирование языковой картины мира той или иной лингво-культуры (или ее части) на основе анализа языковых средств, вербализующих различные фрагменты концептуальной системы носителя культуры. Мы полностью согласны с Н. Н. Болдыревым в том, что «концептуально-тематические области выполняют функцию когнитивного контекста в процессах формирования новых смыслов, выступая как области их определения и интерпретации, как определенные “личностные конструкты”, или способы истолкования мира, по Дж. Келли» [Болдырев, 2017. С. 7]. В этом отношении трудно переоценить значение современного российского медиадискурса как ключевого когнитивного контекста, «где обретают свои культурные и идеологические формы все социальные процессы, где разрабатываются актуальные модели социальной идентичности, где определяется характер доминантных смысловых и идеологических векторов общественного сознания», и поэтому «информация, циркулирующая в обществе, не может быть толерантной (нечувствительной) к медиа, к своей медийной основе, медийной технологии» [Полонский, 2014. С. 110–111]. Медиадискурс мы рассматриваем «как способ видения мира, реализуемый в самых разнообразных (не только вербальных) практиках, не только отражающий мир, но и проектирующий и сотворяющий его» [Дзялошинский, 2013. С. 15–16].
В своем исследовании мы опираемся на характеристики массмедийного дискурса и массмедийного концепта, обозначенные А. В. Полонским: 1) концепт – основная когнитивная единица дискурса; 2) реконструкция массмедийного концепта позволяет выявить изменения «смысловой или стилистико-эмоциональной нюансировки знака»; 3) «двуслойный» характер концепта: с одной стороны, социальная обусловленность, а с другой – идеологическая, «задающая норму фокусировки, значимости и оценивания тех или иных фактов, событий, смыслов, задающей параметры когнитивной деятельности человека» 1.
В настоящее время растет интерес к анализу концепта ПРОТЕСТ и протестного дискурса у широкого круга представителей гуманитарных наук: политологов, филологов, социологов и т. п. Для нашего исследования важен когнитивно-дискурсивный аспект анализа концептуальной структуры на основе массмедиа. В той или иной степени он представлен в работах, на которые мы опирались. Так, М. В. Ильин, анализируя возможности и альтернативы протестных действий, выявляет культурные коды протеста с помощью описания внутренней формы и политических смыслов основных понятий протеста, ставит задачу раскрытия когнитивных схем идеи протеста [Ильин, 2014]. Р. Э. Бараш рассматривает протест как специфическую форму коммуникации, основу которой составляют определенный бинарный медиакод и тема протеста [Бараш, 2018]. В концептуально важной для исследования протестного дискурса статье А. Б. Бушев отмечает, что «дискурсивный анализ актуальных социальных явлений чрезвычайно сложен, а методология такого анализа только разрабатывается» [Бушев, 2015а. С. 192]. Анализ языковых и риторических приемов в дискурсе массмедиа позволил автору продемонстрировать особенности «номинации явлений в политическом дискурсе, использование клише и штампов как частного случая стереотипии, использования аксиологической лексики, метафорики, эвфемии <…>, а также манипуляции фактами, выдачи мнения за знания и некоторые другие облигаторные явления политического дискурса» [Там же. С. 194]. В другой статье А. Б. Бушев продолжает исследование политического массмедийного дискурса, подчеркивая роль когнитивных техник интерпретации протестного контента, акцентируя зависимость описания протеста от политической позиции интерпретатора [Бушев, 2015б. С. 177].
Все сказанное выше обусловливает актуальность нашего исследования.
Цель статьи – проанализировать концептуальную структуру протеста в современном медиаполитическом дискурсе, выявить направления идеологического и смыслового развития массмедийного концепта ПРОТЕСТ .
Материалом для анализа послужили тексты о протестах, связанных с выборами в Московскую городскую Думу (далее – Мосгордума) в 2019 г., опубликованные на сайте aif.ru в июле-августе 2019 г. 2 СМИ «aif.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, регистрационный номер Эл № ФС77-31805 от 23 апреля 2008 г. [Там же]. Всего нами проанализировано 15 текстов (выборка за указанный период), объем каждого из которых от 5 000 до 20 000 знаков (с пробелами).
Для достижения цели мы использовали следующие методы: контент-анализ пилотной выборки текстов на сайте aif.ru, интент-анализ, семантико-стилистический анализ языковых единиц; анализ доминантных психолингвистических сценариев.
В. З. Демьянков рассматривает сценарий как один из вариантов интерпретации текста, «когда ключевые слова и идеи текста создают “сценарные” структуры, извлекаемые из памяти на основе стандартных, стереотипных значений. <…> скелетные формы типичных рассказов, объяснений и доказательств, позволяющие слушающему сконструировать полный тематический фрейм», который включает информацию о фокусе внимания, главных действующих лицах, сюжете, развитии действия, траектории движения и т. п. [Демьянков, 1996. С. 181].
Интент-анализ медиатекстов позволил нам установить, что в них представлены следующие интенциональные категории [Ушакова и др., 1998. С. 103].
-
• «Мы» – журналисты aif.ru; Московская государственная Дума / Мосгордума; Мосгоризбирком / избирательная комиссия / избирком; глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, полиция и др. Эта категория представлена журналистами в контекстах с нейтральной или мажорной тональностью при обсуждении себя и своих сторонников. Авторы используют интенции «информации, ограничения, разоблачения, наказания, самопрезентации, оценивания (+), неявной презентации, похвалы, успокоения аудитории» для самопрезентации и характеристики своих сторонников. Покажем на примере интенций в тексте «“До революции, как до Луны”. Как оппозиция рвется на выборы в Мосгордуму?»: подвел первые итоги регистрации кандидатов на выборы, отказали в выдвижении из-за обнаруженных нарушений, найдено почти десять тысяч подписей умерших людей, АиФ/ru рассказывал ранее о фальшивых подписях, в избиркоме расценили это как давление, не допустили к выборам, полицией было задержано ; полиция накрыла квартиру, в которой в пользу Соболь рисовали подписи для регистрации (АиФ/ru подробно писал об этом ранее); попробуем разобраться ;
юрист Иван Ремесло, ранее обнаруживший «мертвые души» среди подписантов оппозиции и др. [АиФ, 18.07.2019].
-
• «Они» - оппозиция, активисты, протестующие; представители внесистемной оппозиции; кандидаты, отстраненные от выборов; так называемые «независимые кандидаты»; Алексей Навальный, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, бывший депутат Дмитрий Гудков, бывший председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, ряд их соратников и др. При описании этой категории доминируют контексты с интенциями «наказание, критика, оценивание (-), дискредитация, безличное обвинение, разоблачение, предупреждение, угроза», которые обладают минорной тональностью разной степени интенсивности: оппозиция рвется на выборы ; протестующие попытались организовать мини-майдан: поставили палатки на асфальт, заказали доставку биотуалетов; часть активистов участвовала в потасовке с полицией; Яшин боролся с вредителями в штабе; подозревал сотрудников штаба во вредительстве; требовал разблокировать телефоны и давать ему их на проверку; от старой команды начал избавляться : у сборщиков обманом забирали назад заключенные со штабом договоры, отказывались платить , ссылаясь на плохое качество подписей; Соболь покупала подписи в свою поддержку; начала травлю другого оппозиционного кандидата; на митингах юрист ФБК была одной из самых активных фигур; она спровоцировала стычку с полицией ; часть активистов участвовала в потасовке с полицией; вместо объединения оппозиция в очередной показала своему избирателю огромный кукиш и др. [АиФ].
Реже эта категория встречается в нейтральных контекстах - интенции «информация, предупреждение, обращение, требование, призыв, объявление, обещание»: протест широко рекламируется в соцсетях; «независимые кандидаты» обратились с открытым письмом к МГИК с требованием допустить их всех до выборов; объявили о серии протестных митингов, которые обещают проводить до тех пор, пока их кандидатуры не будут утверждены; Илья Яшин в своем Facebook призывал протестовать против низких зарплат, точечной застройки, транспортной политики, запрета интернета, произвола силовиков, «призывногорабства» и др. [Там же].
Единичны мажорные контексты, где категория «они» оценивается позитивно: многие представители внесистемной оппозиции прошли регистрацию , занимались нормальной кампанией по сбору подписей ; добились желаемого и стали кандидатами , потому что они не занимались раздуванием информационного шума и не радикализировали повестку ; «молодняк не распылял ресурсы на хайп и общую протестную повестку, а собирал подписи и работал со сторонниками » [Там же].
-
• «Третья сторона» - обычные люди, избиратели; сборщики подписей, подписанты; члены штабов кандидатов; журналист и публицист Олег Кашин; журналисты Федерального агентства новостей; член партии «ПАРНАС» Михаил Конев; политолог Алексей Мухин; бывший заместитель главреда сайта «Эхо Москвы» Леся Рябцева; экс-координатор штаба Яшина в Мещанском районе Пётр Проскуркин; координатор сборщиков подписей Арсений и др. Контексты, представляющие третью сторону, содержат интенции «информации, привлечения внимания, разоблачения, обвинения, оценивания (-)/(+), объяснения, обращения», адресованные читателям в разрешаемой ситуации. Как правило, они обладают нейтральной тональностью, предполагающей объективность информации: написал в своем телеграм-канале; Михаил Конев обвинил в использовании служебного положения для регистрации на выборах; Конев обратил внимание , что Яшин использовал официальный сайт района, созданный за бюджетный счет; Конев обратился в Мосгоризбирком с просьбой отказать Яшину в регистрации из-за нарушения избирательного кодекса Москвы; о нарушениях при сборе подписей в штабе Яшина сообщил экс-координатор его штаба; он написал в своем Facebook; большинство людей, которым звонили с просьбой подписаться за Яшина, отказывались ; люди уходили из штаба, просто проклиная некогда уважаемого Яшина; журналисты Федерального агентства новостей нашли на сайте politrabota.ru объявления,
согласно которым жителям предлагали за вознаграждение подписаться в поддержку выдвижения Соболь; телеграм-канал «Медиатехнолог» опубликовал интервью с одним из координаторов сборщиков подписей Арсением; по его словам он начал понимать , что ежедневная статистика сбора подписей, которую разглашала Соболь, и реальное число собранных автографов сильно расходятся друг с другом; в штабе замалчивалась история с найденной «фабрикой по сбору подписей»; политолог Алексей Мухин считает , что отклика среди горожан истории оппозиционеров о «гонениях» на них не вызвали; выходец из оппозиционного лагеря, бывший заместитель главреда сайта «Эхо Москвы» Леся Рябцева считает , что собрать настоящие подписи было вполне реально, если бы кандидаты работали, а не «бились лбом об стену, негодуя и ничего при этом не меняя»; по ее словам, Яшин, Навальный, Митрохин, Гудков провоцировали власть , надеясь на жесткую реакцию и т. п. [АиФ, 18.07.2019].
-
• «Ситуация»: в контекстах реализуются интенции «информация, анализ, оценивание», направленные на обсуждение событий, связанных с выборами в Мосгордуму. В оценке исходной ситуации доминирует нейтральная тональность: выборы в Мосгордуму состоятся в Москве 8 сентября; из 290 человек, подавших документы на выдвижение, были зарегистрированы 233; первый митинг прошел 14 июля у стен Мосгоризбиркома; в итоге 39 человек было задержано , остальные разошлись ; большинство задержанных были отпущены следующим утром; очередной митинг состоялся 17 июля на Трубной площади; несмотря на то, что протест широко рекламируется в соцсетях, пока он привлекает немного людей ; митинг у МГИКа и на Трубной собрали около тысячи человек и т. п. [Там же].
Результаты интент-анализа текстов позволяют сделать вывод об их конфликтном характере [Ушакова и др., 1998. С. 108]. Так, категория «мы» («свои») оценивается преимущественно позитивно, реже – нейтрально, а категория «они» («чужие») оценивается исключительно негативно, причем по мере развития ситуации интенсивность негативной оценки нарастает. Наиболее интересно в текстах представлена позиция журналистов в отношении «третьей стороны». Привлечение на свою сторону аудитории сайта осуществляется не только путем разоблачения и дискредитации интенциональной категории «они». Более воздействующей в коммуникативном отношении представляется стратегия «игра на понижение» [Иссерс, 1999. С. 160]. Дискредитация, умаление авторитета группы «они» осуществляется путем показа того, как сборщики подписей, подписанты, члены штабов кандидатов, журналисты, политологи, избиратели и т. д., теряя доверие к представителям оппозиции в связи с допускаемыми ими (причем сознательно) нарушениями , превращались из «своих» в «третью сторону». Так, социальные практики «повседневности», составляющие основную часть нашей жизни, становятся эмоциогенными, конфликтогенными [Иссерс, 2015. С. 21; Шахов-ский, 2016. С. 205] и аксиогенными [Карасик, 2014. C. 6]. По мнению Я. А. Волковой, «деструктивное общение отвоевывает все более значительные позиции во всех без исключения сферах человеческой коммуникации [Волкова, 2014. C. 31].
Структурная модель доминантного сценария (далее – д-сценарий) А. А. Котова служит основанием для функционального определения речевого воздействия. Д-сценарий определяется исследователем как «отношение, связывающее некоторый семантический компонент и вызываемую реакцию (результат воздействия)» [Котов, 2003. С. 6], «структура, “распознающая” в семантическом представлении предложения модели, пугающие или каким-либо иным образом затрагивающие адресата» 3 .
Речевое воздействие определяется А. А. Котовым как «запуск механизмов тревоги» у адресата с помощью текста. Адресант создает текст, ориентированный на то, что адресат построит смысл, соответствующий начальной признаковой модели какого-либо д-сценария. Это приведет к активизации адресатом эмоционального д-сценария. Исследователь отмечает
-
3 Котов А. А. Механизмы речевого воздействия в публицистических текстах. 2004. URL: http://www.harpia.ru/ d-scripts.html (дата обращения 19.12.2019).
значимость валентностей агрессора и жертвы в начальных признаковых моделях д-сценариев [Котов, 2003. С. 13].
Обозначим участников анализируемой коммуникативной ситуации. Так как за основу мы берем медиадискурс, то основным адресантом является издание «Аргументы и факты», в частности сайт aif.ru, в лице представляющих его журналистов. Адресатом при этом выступает целевая аудитория сайта. «Сайт ИД “Аргументы и факты” aif.ru в настоящее время является одним из самых востребованных цифровых газетных ресурсов страны» [Российская периодическая печать, 2020. С. 45]. Аудитория сайта – это мужчины и женщины в возрасте от 16 до 65 лет, по результатам исследований TNS Gallup Media, более 60 % имеют высшее образование, работающие, более 50 % руководителей и специалистов, имеющих доход средний и выше среднего 4.
По нашему мнению, к группе адресата (жертвы) относится не только реальная аудитория, но и потенциальная – любой посетитель сайта, в том числе представители власти (категория «мы»); граждане РФ, журналисты других изданий (возможно, и журналисты АиФ), политологи и т. п. (категория «третья сторона»). Соответственно, агрессором по отношению к ним выступают представители категории «они»: оппозиция, протестующие, кандидаты, отстраненные от выборов и т. д. Они составляют контргруппу (не входят в число коммуникантов). А. А. Котов отмечает, что в текстах СМИ в ситуации речевого воздействия адресант демонстрирует адресату ситуацию, в которой адресат лишается каких-либо ресурсов по вине контргруппы 5.
Мы считаем, что в анализируемых текстах общий тип коммуникации адресанта и адресата можно определить как коммуникацию жертв («Что делают с тобой твои враги?») и призыв к действию [Котов, 2003. С. 14]. «Воздействие происходит в результате осознания адресатом того, что контргруппа представляет для него опасность, присваивает или уничтожает его ресурсы, либо обманывает группу адресата» [Там же. С. 17].
Проанализируем особенности речевого воздействия на примере д-сценариев в медиатекстах АиФ о протестах, связанных с выборами в Мосгордуму (см. таблицу).
Types of d-scenarios in media texts about the elections to the Moscow City Duma
|
№ п/п |
Название д-сценария |
Представленность в медиатекстах, % |
|
1 |
Обман |
38,4 |
|
2 |
Неадекватность |
19,3 |
|
3 |
Тщетность |
7,6 |
|
4 |
Опасность |
7,1 |
|
5 |
Ценностные ориентации |
5,8 |
|
6 |
Намерение / планирование |
5,1 |
|
7 |
Ограничение |
4,9 |
|
8 |
Действие |
4,4 |
|
9 |
Призыв к соблюдению закона |
3,2 |
|
10 |
Другое |
4,2 |
Ключевым, несмотря на незначительность количественного представления, является доминантный сценарий «Ограничение» – 4,9 %, так как при описании ситуации протестов именно он обозначает начальную модель, запускает сценарии для интерпретации события и обусловливает их выбор 6.
Сценарий «Ограничение» активизируется сообщениями об ограничении свободы, действий или каких-либо ресурсов одного из коммуникантов 7, в наших примерах ограничение свободы, действий касается не коммуникантов, а представителей контргруппы, относящихся к интенциональной категории «они»: « Главе муниципального округа “Красносельский” Илье Яшину, соратникам Алексея Навального Любови Соболь и <^> отказали в выдвижении из-за обнаруженных нарушений при сборе подписей » (АиФ, 18.07.2019); « Отказано в регистрации 57 кандидатам, каждому из которых требовалось собрать примерно по 5 тыс. подписей » [Там же].
Ограничение обозначено журналистами АиФ как законно осуществленная мера. При этом в текстах делается акцент на самом действии (« отказали », « отказано »), а субъект, ограничивший действия ( глава и члены Мосгоризбиркома ), может быть определен только из контекста: « 17 июля глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел первые итоги регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму . Из 290 человек, подавших документы на выдвижение, были зарегистрированы 233 » [Там же].
Наиболее важным актантом для данной ситуации является указание причины действия «отказали»: обнаруженные нарушения, бракованные, фальшивые подписи, изменение даты рождения, несоответствие адресов / данных, подписи умерших людей – «мертвые души» и т. д. Фразеологизм «мертвые души» обозначает людей, «несуществующих, придуманных для каких-либо махинаций, личных выгод» 8. Методом компонентного анализа мы выявили актуализируемые им семантические признаки: «нечестный способ», «жульничество», «махинация», «мошенничество», «плутовство» 9. Очевидна ассоциация с широко известной практически каждому россиянину по школьной программе поэмой Н. В. Гоголя. Так, один из текстов имеет заголовок « Рассказать бы Гоголю. Оппозиция использовала данные умерших людей » и лид « Тем временем появилась новая информация об избирательной кампании оппозиции в стиле бессмертного произведения Гоголя “Мертвые души” » (АиФ, 24.07.2019). А в качестве характерологического элемента визуализации использован коллаж с изображением потрепанного, с пожелтевшей от времени обложкой тома бессмертного литературного произведения с резюмирующей подписью « Выборы в Мосгордуму – сюжет для бессмертного произведения Гоголя “Мертвые души”, часть третья… © /Коллаж АиФ» [Там же]. По мнению литературоведов, имя главного героя этого произведения, Чичикова, давно стало нарицательным и «традиционно выступает символом мошенничества, лживости, лести, лицемерия, используется как средство для отрицательной оценки деятельности современных политиков и предпринимателей» [Баль, 2017. С. 147].
И реакция читателей на подобные действия очевидна, поэтому в единственном комментарии к тексту (авторизованном) звучит риторический вопрос: « Как можно верить такой оппозиции? » [Там же].
Именно семантический анализ актанта «причина ограничения» помогает «“прочитать” в тексте когнитивные модели, каким-либо образом затрагивающие интересы адресата» 10, так как в анализируемых медиатекстах АиФ мы наблюдаем явное пересечение сценария «Ограничение» с д-сценариями «Обман» и «Неадекватность».
Д-сценарий «Обман» активизируется сообщениями об обмане коммуниканта либо о скрытных действиях агрессора 11. В текстах АиФ он доминирует – 38,4 %.
По мнению В. Ю. Апресяна, лексема «обман» является аналогом (причем наиболее близким) по отношению к синонимическому ряду «неправда, ложь, вранье» [НОССРЯ, 2000. С. 229], соответственно, имеет значение, которое обобщенно формулируется исследователем как «неверная передача фактов в условиях, когда человек знает правду» [Там же. С. 223]. Для обмана характерен следующий набор признаков: 1) сознательное введение адресата в заблуждение с целью добиться чего-то для себя ; 2) более широкий спектр средств создания заблуждения - не только высказывания, но и действия, а в ситуации с фальсификацией -конкретный предмет; 3) наличие продуманного плана, взаимосвязанных действий или высказываний [Там же. С. 224]: « Итак, оппозиция нам лгала, заявляя, что они “собрали идеальные подписи”. Доказано: в подписях всех оппозиционеров присутствуют “мертвые души”. А вот доказательств того, что подписи “подкинули”, нет никаких » (АиФ, 24.07.2019) .
Включение в медиатексты лексем «фальшивый», «фальсифицировать» и их дериватов и синонимов актуализирует смысл «нарушение закона» [НОССРЯ, 2000. С. 224], что связано с подделкой подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. Причем этот смысл с каждым новым текстом усиливается, подчеркивается степень нарушения: от « фальши-вые/недостоверные/нарисованные подписи » (АиФ, 18.07.2019), фальсификаторы подписей, которые заполняли подписные листы в поддержку кандидатов (АиФ, 24.07.2019) до «“фабрики” по фальсификации подписей в пользу Соболь » (АиФ, 01.08.2019).
Реализация д-сценария «Обман» привела к актуализации доминантного психолингвистического сценария «Намерение, планирование» - 5,1 %. Этот д-сценарий активизируется сообщениями о намеренном характере или планировании действий агрессора против жертвы. В анализируемых текстах мы обнаружили несколько возможных вариантов развития этого сценария:
-
а) агрессор - оппозиция, кандидаты, отстраненные от выборов; жертвы - представители интенциональной категории «мы», в первую очередь различные ветви власти г. Москвы, -мэр Москвы С. Собянин, Мосгордума, Мосгоризбирком, глава Мосгоризбиркома В. Горбунов, ГУ МВД по Москве, прокуратура, полиция, журналисты aif.ru и др. Так как самим оппозиционерам в публикациях aif.ru слова не дают, действия агрессора представлены в интерпретации журналистов издания: « “Независимые кандидаты” обратились с открытым письмом к МГИК с требованием допустить их всех до выборов . В избиркоме расценили это как давление »; « Оппозиционные политики считают, что их незаконно не допустили до выборов. Они объявили о серии протестных митингов, которые обещают проводить до тех пор, пока их кандидатуры не будут утверждены » (АиФ, 18.07.2019); « Цель был понятна – спровоцировать общественное недовольство отказом в приеме “народных” подписей , даже если там содержался откровенный “брак” и вместо живых людей “подписывались” “мертвые души”. <…> Главное – поймать “хайп”, устроить “движуху” и отработать технологию рекрутирования за деньги людей для создания массовости протеста » (АиФ, 24.07.2019). Следовательно, запускается д-сценарий «Неадекватность» агрессора, пытающегося манипулировать адресатом. Именно это, по нашему мнению, подчеркивает В. И. Шаховский, характеризуя влияние модуса кажимости на субъективное восприятие мира разными людьми, обусловливающее нарушение баланса эмоциональной толерантности в общении и причины недопонимания [Шаховский, 2016. С. 270];
-
б) агрессор - оппозиция, кандидаты, отстраненные от выборов; опосредованно жертва -обычные люди, подписанты, избиратели, протестующие и т. п. Действия агрессора, по мнению журналистов АиФ, обман, провокация, организация массовых беспорядков: Леся Рябцева: « Вместо объединения оппозиция в очередной показала своему избирателю огромный кукиш. <...> выгнав Нюту, “мочив” (в оригинале поста здесь нецензурное слово. - Е. В. ) друг друга и не зарегистрировавшись сами, они оставили округ без своего кандидата » (АиФ, 24.07.2019); « Получается, что главная задача организаторов акции - спровоцировать правоохранителей на активные действия и в конечном итоге на задержание участников, тем самым вызывая дополнительное недовольство уже самих митингующих .
По принципу “чем хуже, тем лучше”. Но кому-то очень хочется устроить “второе издание Болотной”, а в идеале - нечто подобное акциям “желтых жилетов” во Франции, со всеми вытекающими последствиями - массовыми беспорядками, силовым противостоянием протестующих с сотрудниками правоохранительных органов » (АиФ, 27.07.2019) .
В данной конфликтной коммуникации адресант в лице журналиста АиФ напоминает аудитории о прецедентных ситуациях: 1) « Напомним, что 6 мая 2012 года на Болотной площади прошел “Марш миллионов”, приуроченный к итогам президентских выборов » (АиФ, 06.05.2015); 2) протест «желтых жилетов» во Франции: « Осенью 2018 – зимой 2019 гг. по всей Франции гремели антиправительственные протесты “желтых жилетов”, которые выступали против повышения тарифов ЖКХ и цен на бензин. С самого начала правительство заявило, что не собирается “защищать порядок Республики мягкими словами”. В результате против протестующих применялись все репрессивные методы воздействия: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов » (АиФ, 02.08.2020) .
Так как обе ситуации сопровождались столкновениями с полицией и массовыми задержаниями протестующих, журналист информирует аудиторию о том, что планы агрессора представляют для нее опасность, таким образом, запускается д-сценарий «Опасность». Чтобы усилить этот эффект, в качестве экспертов/лидеров мнений привлекают представителей власти, которые предупреждают жителей г. Москвы о возможности силового сценария развития событий, провокаций, представляющих угрозу безопасности, жизни и здоровью людей ; обещают принять меры для обеспечения безопасности граждан и пресечения нарушений общественного порядка ; гарантируют привлечение к ответственности всех тех лиц, которые призывают всех к массовым беспорядкам и насилию и т. п. (АиФ, 27.07.2019-30.07.2019, 01.08.2019–03.08.2019) . Следовательно, запускается сценарий «Тщетность» действий протестующих, осуществляется успокоение адресата относительно опасности, возникшей в результате действий контргруппы.
Резюмируя, подчеркнем, что проведенный нами анализ медиатекстов АиФ, посвященных протестам, связанным с выборами в Московскую городскую Думу в 2019 г., показал доминирование идеологического вектора в репрезентации массмедийного концепта ПРОТЕСТ, обусловливающего рамку наблюдателя и интерпретатора: выбор событий, лидеров мнений, прогнозы и т. п., что нашло подтверждение на всех этапах нашего исследования.
Материал поступил в редколлегию Received 29.01.2020
Список литературы Структура массмедийного концепта протест: дискурсивные практики современности
- Баль В. Ю. Образ Чичикова в современной русской прозе // Вестник Том. гос. ун-та. Филология. 2017. № 49. С. 147-167.
- Бараш Р. Э. Системно-коммуникативная теория протеста: протест как «альтернатива без альтернативы» // Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. 2018. № 3. С. 123-138.
- Болдырев Н. Н. Проблемы вербальной коммуникации в когнитивном аспекте // Вопросы когнитивной лингвистики. 2017. № 2. С. 5-14.
- Бушев А. Б. Дискурс глобальных медиа: оптика исследования // Вестник ТвГУ. Сер. «Филология». 2015а. № 1. С. 187-195.
- Бушев А. Б. Протестный дискурс: оптика исследования // Вопр. теории и практики журналистики. 2015б. Т. 4, № 2. С. 170-182.
- Волкова Я. А. Деструктивное общение в когнитивно-дискурсивном аспекте. Волгоград: Перемена, 2014. 304 с.
- Демьянков В. З. Сценарий // Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е. С. Куб-
- ряковой. М., 1996. С. 181-182. Дзялошинский И. М. Медиапространство России: коммуникационные стратегии социальных институтов. М.: Изд-во АПК и ППРО, 2013. 479 с.
- Ильин М. В. К ответу! Концепт протеста как исходный момент категории подотчетности // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журн. полит. философии и социологии политики). 2014. № 1 (72). С. 6-13.
- Иссерс О. С. Дискурсивные практики нашего времени. М.: ЛЕНАЛД, 2015. 272 с.
- Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Омск: Ом. гос. ун-т, 1999. 285 с.
- Карасик В. И. Языковое проявление личности. Волгоград: Парадигма, 2014. 450 с.
- Котов А. А. Механизмы речевого воздействия в публицистических текстах СМИ: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2003. 24 с.
- Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка // Вопр. когнитивной лингвистики. 2009. № 1. С. 5-12.
- Кубрякова Е. С. Концепт // Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е. С. Кубряко-вой. M., 1996. С. 90-93.
- НОССРЯ - Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М.: Языки славянской культуры, 2000. Вып. 2. 488 с.
- Полонский А. В. Массмедийность как категория дискурса и текста // Дискурс современных массмедиа в перспективе теории, социальной практики и образования. I Междунар. науч.-практ. конф.: Сб. науч. работ / Под ред. Е. А. Кожемякина, А. В. Полонского, А. Г. Ходеева. Белгород: Константа, 2014. 382 с.
- Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития: отраслевой доклад Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии. М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2020. 139 с.
- Ушакова Т. Н., Цепцов В. А., Алексеев К. И. Интент-анализ политических текстов // Психологический журнал. 1998. № 4. С. 98-109.
- Шаховский В. И. Диссонанс экологичности в коммуникативном круге: человек, язык, эмоции. Волгоград: ИП Поликарпов, 2016. 504 с.