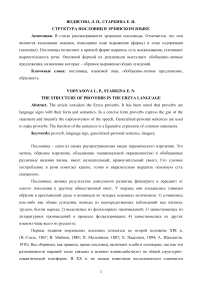Структура пословиц в эрзянском языке
Автор: Водясова Л.П., Старкина Е.Н.
Журнал: Огарёв-online @ogarev-online
Статья в выпуске: 8 т.5, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются эрзянские пословицы. Отмечается, что они являются языковыми знаками, имеющими план выражения (форму) и план содержания (значение). Пословицы позволяют в краткой форме выразить суть высказывания, усиливают выразительность речи. Основной формой их реализации выступают обобщенно-личные предложения, назначение которых - образное выражение общих суждений.
Обобщенно-личное предложение, образность, пословица, языковой знак
Короткий адрес: https://sciup.org/147249467
IDR: 147249467 | УДК: 811.511.152’373’72
Текст научной статьи Структура пословиц в эрзянском языке
Пословица – один из самых распространенных видов паремического изречения. Это меткое, образное изречение, обладающее эмоциональной окрашенностью и обобщающее различные явления жизни, имеет назидательный, нравоучительный смысл. Его удачное употребление в речи помогает кратко, точно и выразительно выразить основную суть сказанного.
Пословицы, являясь результатом длительного развития, фиксируют и передают от одного поколения к другому общественный опыт. У мордвы они создавались главным образом в крестьянской среде и возникали из четырех основных источников: 1) сочинялись кем-либо как общие суждения, выводы из непосредственных наблюдений над жизнью, трудом, бытом народа; 2) выделялись из фольклорных произведений; 3) заимствовались из литературных произведений в процессе фольклоризации; 4) заимствовались из других языков (чаще всего из русского).
Первые издания мордовских пословиц относятся ко второй половине XIX в. (Н. Сталь, 1867; В. Майнов, 1885; П. Мельников, 1887; Х. Паасонен, 1894; А. Шахматов, 1910). Все сборники, как правило, кроме пословиц, включают в себя и поговорки, так как эти разновидности паремий тесно связаны и активно взаимодействуют на общей структурносемантической платформе. В XX в. их самым известным исследователем становится литературовед и фольклорист К. Т. Самородов, большую часть своей жизни посвятивший изучению мордовских паремий. В 1954 г. им был издан сборник «Мокшанские пословицы», в 1955 - «Эрзянские пословицы», в 1959 г. - «Мордовские пословицы и загадки». Составленная им книга «Мордовские пословицы, присловицы и поговорки» (первое издание - 1959 г., второе - 1986 г.) до настоящего времени является главным трудом по изучению паремического творчества мордвы.
Предметом нашего изучения являются пословицы, созданные безымянными авторами на одном из мордовских языков - эрзянском. Материалом для анализа нам послужили составленные К. Т. Самородовым сборники «Мордовские пословицы, присловицы и поговорки» [1] и «Устно-поэтическое творчество мордовского народа: Пословицы, присловья и поговорки» [2].
Пословицы в зависимости от происхождения имеют следующие стилевые разновидности - собственно пословицы, приметы, афоризмы, максимы. Пословица в широком значении встречается чаще всего. Она занимает центральное место среди изречений как стрежневая форма афористического выражения: Чачома мастордот мазый тарка а муят «Красивее родной страны места не найдешь»; Тиринь велес кись келей «В родное село дорога широкая»; Паро паксясо, велесэ, бути весе эрить артелень мельсэ «Хорошо в поле, селе, если все живут в артели дружно»; Тевень вечки ки ули, се паро валткак мари «Кто работу будет любить, тот хорошие слова будет слышать»; Туинек пировамо, савсь горевамс «Пошли пировать, а пришлось горевать»; Пиресь андтанзат -паксясь трятанзат «Огород накормит - поле прокормит» и др.
Пословицы имеют одновременно буквальный и переносный (образный) план или только переносный план. Так, пословицы Суро а видят - каша а пидят «Просо не посеешь - кашу не сваришь», Ве куросо ве раськень пангт касыть «В одном грибном месте одной породы грибы растут» отличаются двойным планом — буквальным и иносказательным. Напротив, пословица Часиясь — аволь варака: кедьсэ а кундави «Счастье — не ворона: руками не поймать» имеет только образный план. Пословиц, имеющих переносное значение, гораздо больше, хотя многие из них возникли на основе реальных событий или действий. Так, например, пословица утверждает, что Московось аволь сеске строявсь «Москва не сразу строилась», что абсолютно правильно, потому что поселение на месте теперешней Москвы существовало почти тысячу лет назад. Но это изречение употребляется в речи не ради этого прямого смысла, а ради переносного: всякое большое дело начинается с малого, постепенно приобретая размах. Образность пословиц создается метафорами, метонимией, сравнениями и другими формами иносказательности [3]. Так, например, в пословицах: Скотинань ванат мель, саят ярсамопель «Угождаешь скотине, будет [у тебя] еда (букв.: возьмешь еду)»; Тевесь вечки теема, ярмакось — ловома «Дело любит делаться, а денежка – считаться» – образность создана с помощью метафоры; в пословицах: Тевтеме лапныця келесь – чаво парьсэ лаужа «Без дела болтающий язык – в пустой кадушке мешалка»; Мирдесь ды нись – ве кевень толт «Муж и жена – искры (букв.: огни) одного кремня (букв.: камня)» – с помощью сравнения. Очень часто образность создается с помощью такого яркого средства выразительности, как антонимия. Созданных на ее основе пословиц огромное количество. В них подчеркивается противоречие, конфликтность внутреннего психологического состояния человека или описываемых событий, при этом используется достаточно много контекстуальных антонимов, иными словами, лексических единиц, не являющихся словарными антонимами, но вступающими между собой в антонимические отношения в пределах данного изречения [4; 5]. В антонимических отношениях могут быть имена прилагательные, имена существительные, глаголы, наречия и пр.: Мезенть одсто емавтсак, сень сырестэ а велявтсак «Что в молодости потеряешь, то в старости не вернешь»; Важодицясь вешни тев, нузяксось – тувтал «Трудолюбивый ищет работу, ленивый – причину»; Телесь ловтомо – кизэсь кшивтеме «Зима без снега – лето без хлеба».
Все пословицы являются языковыми знаками, так как относятся к синтаксическим единицам, которые имеют план выражения (форму) и план содержания (значение). Они обладают структурной организацией в виде предложения, так как, во-первых, являются одним из средств формирования, выражения и сообщения определенной мысли, передачи эмоций и чувств человека, во-вторых, выполняют коммуникативную функцию, являясь одним из средств общения, и, наконец, им свойственны смысловая, структурная, грамматическая и интонационная завершенность, синтаксическая предикативность и коммуникативная задача. Все пословицы, подчеркивают исследователи, обладают большим воспитательным потенциалом [6, с. 67–72; 7, с. 156–160].
В структурном отношении эрзянские пословицы могут представлять из себя предложения простые (Видечись видечис кеми «Правда правде верит»; Ломанень превсэ а эряват «Чужим умом не проживешь»; Вадря тевесь куватьс а стувтови «Хорошее дело долго не забывается») и сложные (Чевтестэ ацы, но калгодо удомс «Мягко стелет, но жестко спать» – сложносочиненное предложение; Кодамо кевкстемась, истямо ответэсь «Какой вопрос, такой ответ» – сложноподчиненное предложение с придаточным определительным; Эйкакш мартось эри, эйкакштомось ризны «Детей имеющий (букв.: с детьми) живет, бездетный страдает» – бессоюзное сложное предложение), однако по составу и простые предложения, и предикативные части сложных чаще всего представляют собой обобщенно-личные предложения. И это объяснимо. Основное назначение обобщенноличных предложений – образное выражение общих суждений, больших обобщений. В любом учебнике по синтаксису отмечается, что предложения этого типа – основа для создания пословиц, поговорок, афоризмов [8, с. 135-139; 9, с. 95; 10, с. 427; 11, с. 92]. Это синтаксические единицы, в которых формулируются наблюдения, связанные с обобщающей характеристикой определенных предметов, жизненных явлений и ситуаций: Ломань масторсо кизнаяк натой кельмат «В чужой стране и летом даже мерзнешь»; Каштом лангсо часия а муят «На печке счастья не найдешь»; Верьгизэнть кода иля андо, яла вирев ваны «Волка как ни корми, он все в лес смотрит»; Маштат видеме-сокамо - маштт сюронь кочкамо «Умеешь пахать-сеять - умей урожай собирать». Обобщающий характер последней пословицы, например, в том, что она употребляется не только для указаний на зависимость урожая от умения пахать и сеять, но и для доказательства обусловленности следствий их причинами в самых разнообразных областях жизни. Пословица от частного ведет к общему, дает конкретный образ, имеющий широкое познавательное значение. В этом проявляется ее похожесть на художественное произведение: Вейке ладсо чачома, а вейке ладсо кастома «Одинаково родимся, неодинаково растем»; Сюронть онкстыть вессэ, вадря эрямонть -паро тевсэ «Зерно взвешивают весами, хорошую жизнь — добрыми делами»; Важодят -ярсат, а важодят - пейсэ кальцят «Работаешь - кушаешь, не работаешь - зубами стучишь».
В обобщенно-личном предложении отнесенность действия к обобщенному, то есть ко всякому, любому лицу реализуется в формах независимого главного члена - сказуемого, выраженного: 1) глаголом в форме индикатива 2-го лица единственного числа: Парсте яла эрят, бути ломанень ки а пирят «Хорошо всегда живешь, если людям дорогу не загораживаешь»; Ламо каят - ламо саят «Много положишь - много возьмешь»; 2) глаголом в форме индикатива 3-го лица множественного числа: Тюремадо мейле мокшнасо а юхаить «После драки кулаками не машут»; Паро тевенть кисэ шныть, беряненть кисэ - севныть «За хорошее дело хвалят, за плохое - ругают»; 3) глаголом в форме императива 2-го лица единственного и множественного числа: Арсек аволь кулядонть, арсек кулянь нолдыцядонть «Думай не о сплетне, думай о сплетнике»; Ломанень паро лангс кургот иляк автне «На людское добро рот не открывай» (эквивалент в русском языке: На чужой каравай рот не разевай ).
В пословицах проявляется высшая степень обобщения опыта. Форма обобщения настолько существенна, что облеченное в нее высказывание приобретает афористичность и назидательность. Исходя из этого, в обобщенно-личных предложениях все основные элементы предикативности - модальность, темпоральность и персональность - содержат обобщение, подкрепляющее афористический смысл. Так, общее модальное значение реальности-ирреальности, выражаемое формами наклонения, сопровождается частными модальными значениями, обусловленными формой сказуемого, в частности: 1) значение долженствования -формами индикатива 2-го лица единственного числа: Ламо содат - ламо теят «Много знаешь - много сделаешь»; Паро арсят - паро марсят «Добро желаешь - доброе слышишь»; Ламо ловнат - ламо содат «Много читаешь - много знаешь»; 2) значение целесообразности -формами индикатива 3-го лица множественного числа: Косо дружнасто эрить, тосо нужадо а пелить «Где дружно живут, там нужды не боятся»; 3) значение нецелесообразности -формами индикатива 3-го лица множественного числа с отрицательной частицей а «не»: Сисем тевть ве кедьс а сайнить «Семь дел в одни руки не берут»; 4) значение невозможности - формами индикатива 2-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа с отрицательной частицей а «не»: Чачить покш пря коршокс, цековокс а улят «Родился совой - соловьем не станешь»; Тев а содат - карь а кодат «Дела не знаешь -и лапоть не сплетешь»; Весе ярмактне а саевить «Всех денег не взять»; 5) значение неизбежности - формами индикатива 2-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа: Семиястот бути туят - эрямосонть лув а муят «Из семьи если уйдешь - в жизни лада не найдешь»; Косо симить, тосо валныть «Где пьют, там льют»; 6) значение пожелания, совета, рекомендации - формами императива 2-го лица единственного числа (в том числе с отрицательной частицей иля / иляк «не»): Чачома масторот кисэ виетькак, эрямоткак иляк жаля «За родную сторону ни сил, ни жизни не жалей»; Пазонть пельде учок, а тонсь иля удо «От Бога жди, а сам не спи» (русский эквивалент: На Бога надейся, а сам не плошай); Иля капша кельсэ, капшак - тевсэ «Не спеши языком, спеши -делом»; 7) значение оценки - формами индикатива 2-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа: Манят вейке, кавто ломанть - народось а маняви «Обманешь одного-два человека, а народ не обмануть»; Ципакатнень сексня ловныть «Цыплят осенью считают». Темпорального значения в силу обобщенности семантики временного значения обобщенно-личные предложения лишены, поэтому им свойственно значение вневременности: Иля стувтне ялгат, тоньгак а стувттадызь «Не забывай товарищей - и тебя не забудут»; Зыянось ськамонзо а яки «Беда одна не ходит»; Пешксе пекесь вачочиде а арси «Сытый живот о голоде не думает». Как видим, ни в одном из пословиц временной фактор не определен -действие могло происходить когда-то, а может происходить и в настоящем, и в будущем времени. Обобщенное значение персональности заключается в том, что высказывание, выраженное в обобщенно-личном предложении, соотнесено одновременно со всеми лицами: Кона таркась сэреди, иляк токше «Которое место болит, не трогай»; Мезе теят, секень неят «Что сделаешь, то и увидишь»; Парочиде парочи а вешнить «От добра добро не ищут». Во всех предложениях выражается независимое действие (признак), не связанное с конкретным деятелем, который в свою очередь словесно не обозначен и мыслится как семантически обобщенное лицо. Условно это значение можно представить как я + ты + все другие.
В пословицах может обобщаться и личный опыт говорящего, когда он, отвлекая себя от действия, преподносит его как обычное, типичное, закономерное. В предложениях такого типа повествуется о совершенном говорящим в прошлом действии, притом действии длительном, обычном или повторявшемся неоднократно. Благодаря глагольной форме 2-го лица настоящего и / или будущего времени (в эрзянском языке форма настоящего времени и простая форма будущего совпадают) оно осмысливается как обобщенное: Эрязкадат – ломанть пейдевтят «Поспешишь – людей насмешишь»; Эрязкадат – дураскадат «Поспешишь – сглупишь»; Бути вейке чис кадоват, сестэ недля лувс а соват «Если на один день отстанешь, за неделю не догонишь». Обобщение такого рода может быть основанием для вывода, поэтому данные предложения легко переходят через ту условную грань, за которой имеет место уже не конкретное повествование, а обобщение личного опыта и выражение его как обязательного для всех: Оймазь седейсэ удат, бути вадрясто трудят «Спокойным сердцем спишь, если хорошо потрудишься»; Кинь эйкакшонзо арасть, се эйкакшонь жалямонть а содасы «У кого детей нет, тот любви к детям не знает»; Ламо удат – эсь прят сюдат «Много спишь – себя проклинаешь» и др.
В пословицах учитывается и такая важная особенность обобщенно-личных предложений, как способность использоваться при выражении только тех наблюдений, которые представляются говорящему обязательными, бесспорными, поскольку вытекают из объективных особенностей наблюдаемых явлений и ситуаций. Основным семантическим компонентом становится личная причастность любого лица к наблюдениям, составляющим содержание этих предложений, в них обобщается жизненный опыт говорящего или усвоенный им коллективный опыт: Лов алов сокат – ламо сюро саят «Под снег пашешь – много хлеба соберешь»; Вадрясто порьсак – валанясто нильсак «Хорошо прожуешь – гладко проглотишь».
В заключение отметим, что обобщающий характер пословиц позволяет в образной и чрезвычайно краткой форме выразить суть высказывания, усилить выразительность речи, придать ей остроту. Речь людей, знающих и использующих много пословиц, как правило, ярка, эмоциональна и понятна. Это помогает найти путь к сердцу слушателей, завоевать их уважение и расположение.