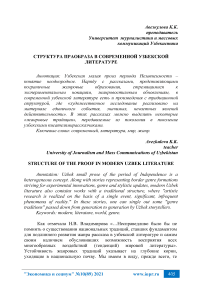Структура праобраза в современной узбекской литературе
Автор: Авезкулова К.К.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 10 (89), 2021 года.
Бесплатный доступ
Узбекская малая проза периода Независимости – понятие неоднородное. Наряду с рассказами, представляющими пограничные жанровые образования, стремящимися к экспериментальным новациям, жанровостилевым обновлениям, в современной узбекской литературе есть и произведения с традиционной структурой, где «художественное исследование реализовано на материале единичного события, значимых, нечастных явлений действительности». В этих рассказах можно выделить некоторые «жанровые традиции», передаваемые из поколения в поколение узбекскими писателямирассказчиками.
Современный, литература, мир, жанр.
Короткий адрес: https://sciup.org/140260806
IDR: 140260806
Текст научной статьи Структура праобраза в современной узбекской литературе
Как отмечала Н.В. Владимирова «…Несправедливо было бы не помнить о существовании национальных традиций, ставших фундаментом для подлинного развития жанра рассказа в узбекской литературе и самим своим наличием обусловивших возможность восприятия всех многообразных воздействий (тенденций) мировой литературы». Устойчивость жанровых традиций указывает на глубокие корни, уходящие в национальную почву. Мы имеем в виду, прежде всего, те
«органические элементы», которые позволяют говорить об узбекском рассказе как о некоей целостности, имеющей свои национальные истоки и национальную специфику. К такому типу относятся рассказы Мухаммада Али, Хуршида Дустмухаммада, Шаходат Исахановой, Хайриддина Султана, Саломат Вафо, Зульфии Куралбой кизи. Всех этих писателей объединяет не только тяготение к классической форме рассказа, но и попытки вскрыть внутренние пружины поведения героев, выявить взаимосвязи между средой и личностью, исследуемой в самых различных аспектах. Перед нами лишь штрихи эпической картины современной жизни. Но штрихи эти начертаны с удивительной точностью, детали продуманно сориентированы. Рассказы данных писателей характеризуются самобытной точкой зрения на изображаемое явление, любую ситуацию обыденной жизни. В самой этой обыденности заложен элемент всеобщности человеческого бытия и судьбы народа.
Сегодня можно выделить две жанровые тенденции в развитии классической малой прозы: тенденция новеллистическая с ее стремлением «к формальной точности, оголенности сюжетной конструкции, предельной лаконичности» и тенденция «сказовая», которую характеризуют тяготение «к эпической широте, свободному построению сюжета, сближению с жанром повести, особая манера повествования».
Так, сказовую тенденцию представляют рассказы «Кичкирик» Хуршида Дустмухаммада, «Нон» («Лепешка») и «Алтойир юлдузи» («Звезды Алтоира») Мухаммада Али. Эпико-романтическая величавость и возвышенность рассказа «Кичкирик» (2011) Хуршида Дустмухаммада во многом определяются своеобразным авторским взглядом на человека в общей панораме природы. Широкое понятие Времени создается не столько с помощью последовательного изложения человеческой судьбы, сколько своеобразным воссоединением Человека и Природы, утверждением этих взаимосвязанных сторон мира. Сюжет рассказа незамысловат: в реке Кичкирик утонула молодая женщина, двухнедельная невестка, ее тело пытаются найти все жители кишлака, в том числе и главный герой Султан, который недолюбливал эту «своенравную» речку. Эта трогательная история могла бы выглядеть мелодраматичной, если бы она была написана в обычной бытовой манере. Главный герой Султан, превозмогая страх и неприязнь к этой «норовистой» реке, решается найти утопленницу, но в итоге находит себя в самом себе, обретя гармонию с природой. Повествование об этом процессе включает в себя важные мысли. Прежде всего – мысль о том, что человеку, вовлеченному в природный круговорот, не нужно что-либо понимать: «… Султан отдался воле течения, ни о чем не думая, не силясь ничего понять… Султан словно сговорился с анхором, заключил договор о недопустимости преднамеренного вероломства…». Освобождение от необходимости понимания связывается в сознании главного героя с чувством освобожденности и обновления себя в себе. Султан почувствовал, что вот-вот встретится с этим чудом… Они (рыбки. К.С.) указывали путь, направление движения… Он настолько сблизился с анхором и его водами, что может деликатно просить его, делиться своими чистыми помыслами, а если надо – кричать во весь голос, так кричать, что Кичкирик хоть на миг приостановит свое движение». Но главное открытие происходит в момент полного отказа от сознания, чувства, слуха. В этом состоянии полной растворенности вовне герой не видит ни неба, ни воды, ни земли. Он «обмяк, как каша-халим», чувствуя лишь незримую дорогу, где звучали голоса: «Смотрите, человек! Человек в воде!». Так, только поняв анхор, отказавшись от своей гордыни, главный герой смог понять и принять себя и, главное, спастись. В рассказе Хуршида Дустмухаммада процесс художественного переосмысления классических традиций, развиваясь по логике исторической преемственности, актуализирует формирование современной психологической концепции «Я-мир», которая типологически развивает глобальные нравственные проблемы. В отличие от Хуршида Дустмухаммада, тяготеющего к адинамическому сюжету, Мухаммад Али создает предельно сжатую, концентрированную форму рассказа, насыщенную не действием, а эмоциями, позволяющую выразить ту или иную идею предельно конкретно. Особенностью рассказа «Нон» («Лепешка») является то, что он, будучи посвященным войне, по своему действию развивается в настоящем времени. И нет, пожалуй, другого, более распространенного, общечеловеческого по своему смыслу образа, чем образ скорбящей матери, оплакивающей детей, павших на поле брани. Этот образ проходит через всю историю человечества – от народного эпоса, Корана, Библии до сегодняшних скульптур и памятников (в частности, памятника Скорбящей Матери на площади Независимости в городе Ташкенте)… Сюжет рассказа «Нон» («Лепешка») интересен всеобщей и символической проекцией авторской мысли, которая расширяет частную историю простой узбекской женщины по имени Жаннат (кстати, «Жаннат» в переводе с узбекского «Рай», что весьма символично) до широких пределов патетического гуманизма, объединяющих собой всех матерей Земли. Характерно, что Мухаммада Али двуплановый: один общий план, носящий почти открыто символический характер, и другой, приземляющий его, насыщенный густой плотной бытописью, что делает весь сюжет удивительно достоверным. Он, например, подробно описывает весь уклад жизни старухи Жаннат, начиная с того, как она встает, одевается, молится и ежедневно на супе с утра до вечера дожидается своего сына. Трагическая интонация в рассказе появляется лишь тогда, когда Жаннатой отпускает свою невестку восвояси и отказывается покинуть свой дом, несмотря на уговоры дочерей. С этого момента весь налаженный уклад, кроме томительного ожидания сына, становится и в ее, и в наших глазах как бы иллюзорным, ненужным, и все, что делает Жаннат, она, мы это чувствуем, делает механически. Жизнь, в сущности, уже ушла не только из этого крепкого дома, но и из ее когда-то молодого, полного материнской жажды и нежности крепкого здорового тела. Не зря Мухаммад Али останавливает внимание читателя на внешнем физическом здоровье, крепости и силе главной героини, сумевшей без мужа выдать замуж двух дочерей и сыграть пышную свадьбу своему сыну; тем более поражает нас пагубность внутренних разрушений, обрекающих мать на медленную верную смерть. Дети должны пережить своих родителей, чтобы дать новые ветви вечно зеленой и неумирающей жизни. В результате читатель наблюдает за жизнью, которая «как бы» течет как она есть, при отсутствии «авторского вмешательства», благодаря таланту писательницы испытывает потрясение и мучится бедами, трагедиями, страданиями ее героев. В этих произведениях поражает какая-то необычайная концентрация жизни, сжатой порою в миг. Наверное, это жизненное пространство героев до такой степени стиснуто и замкнуто, что превращается в «точку времени». Отсюда такая боль в сердце читателя. Осколки житейских историй, порою сентиментально выстроенных, но искренне и самозабвенно нарисованных в рассказах, с легкостью можно экранизировать, настолько точны и реалистичны характеры изображенных ею героев. Рассказ «Аёл» («Женщина») жизненно достоверен и и при всей своей взволнованной лиричности подчинен исследованию переживаемых героиней эмоций, психологической наполненности этих переживаний. Автор стремится к извлечению экстракта чувств, экстракта настроений, тем самым создавая психологический поток, сложное движение женской психики. Особенность композиции рассказа в его кольцевом характере.
Список литературы Структура праобраза в современной узбекской литературе
- Дустмухаммад Х. Донишманд Сизиф. – Т., 2016.
- Камю А. Бунтующий человек. Философия. Миф о Сизифе. Политика. Искусство. – Политиздат, 1990.