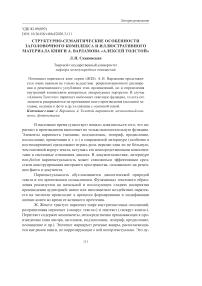Структурно-семантические особенности заголовочного комплекса и иллюстративного материала книги А. Варламова "Алексей Толстой"
Автор: Скаковская Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Потенциал паратекста книг серии «ЖЗЛ» А.Н. Варламова представляется очень важным не только вследствие репрезентационного расширения и рецепционного углубления этих произведений, но и определения внутренней взаимосвязи конкретных литературных портретов. В случае «Алексея Толстого» паратекст выполняет сквозную функцию, то есть его элементы раскрываются на протяжении всего произведения (исходное заглавие, подписи к фото и др.) и связаны с основной темой.
А. варламов, а. толстой, паратекст, заголовочный комплекс, фотовставки
Короткий адрес: https://sciup.org/146281697
IDR: 146281697 | УДК: 82.09(092) | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.111
Текст научной статьи Структурно-семантические особенности заголовочного комплекса и иллюстративного материала книги А. Варламова "Алексей Толстой"
В настоящее время существует немало доказательств того, что паратекст в произведении выполняет не только вспомогательную функцию. Элементы паратекста (заглавие, подзаголовок, эпиграф, предисловие, послесловие, примечания и т. п.) в современной литературе (особенно в постмодернизме) продолжают играть роль нередко едва ли не бо́льшую, чем основной корпус текста, вступая с его непосредственными компонентами в системные отношения диалога. В документалистике, литературе non-fiction паратекстуальность может становиться эффективным средством конструирования авторского пространства, основанного на рецепции факта и документа.
Паратекстуальность обусловливается диалогической природой текста и его критическим осмыслением. Функционал текстового обрамления реализуется на начальной и последующих стадиях восприятия произведения аудиторией: явное или имплицитное воздействие паратекста на читателя происходит в процессе формирования и модификации оценки книги во время ее активного прочтения.
Ж. Женетт трактует паратекст шире внутритекстовых отношений, разграничивая перитекст («вокруг текста») и эпитекст («вокруг книги»). Перитекст содержит компоненты, непосредственно примыкающие к произведению (имя автора, заголовок, подзаголовки, эпиграф, предисловие, посвящение и пр.). Эпитекст маркирует речевые жанры, располагающиеся вне рамок книги, но коррелирующие с ней интертекстуально. Это пу- блицистический (издательский) эпитекст (интервью и беседы по поводу изданной книги и пр.) и частный эпитекст (переписка, личный дневник) [5, с. 36].
На наш взгляд, указанные термины в литературных писательских биографиях А. Н. Варламова приобретают высокую актуальность в связи с характерными внутренними законами этих книг, проистекающими из специфики серии «Жизнь замечательных людей» и особенностей нарра-тологии их автора. Так, к примеру, структурно-композиционная часть текстов издательства «Молодая гвардия» отличается наличием, в частности, таких паратекстуальных составляющих, как «Примечания» и «Основные даты жизни и творчества», а важной чертой именно варламовского дискурса является интертекстуальность названий произведений и их глав. Категории перитекста и эпитекста получают концептуальное решение в книге «Алексей Толстой», определяя ее репрезентационный и рецепци-онный аспекты.
Одним из значимых компонентов в структуре паратекста является имя создателя произведения. Однако в серии «ЖЗЛ» имя биографа не становится определяющим и первичным фактором, вызывающим читательский интерес. На формально-содержательном уровне произведения имя «замечательного человека» выходит на первый план и определяет границы его «потребления», то есть на ведущих позициях здесь остается заглавие. В то же время существенное значение имеет и имя биографа, расширяя пространство текста и составляя с ним неразрывное целое.
Если говорить о заголовочном комплексе «Алексея Толстого», то для интерпретации текста важен первоначальный вариант его названия, сохранившийся в журнальной версии – «Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом». Исходные текстовые разновидности биографий А. Н. Варламова имеют двухчастную структуру заголовка, то есть в данном случае перед читателем две номинации: наиболее точно выражающая, с авторской точки зрения, образ героя, и возникающая как маркер жанровой специфики (тот же принцип в выборе заглавий главенствует, к примеру, в «Пришвине»).
Одновременно с перитекстным анализом специфики названия можно проводить эпитекстный ввиду существования нескольких рецензий, авторы которых обращают внимание на первую часть заголовочного комплекса – «Красный шут».
А. Немзер нашел название «Красный шут» удачным в силу собственных резко критических оценок жизни и творчества А. Н. Толстого: «Многим ли хуже в “чисто художественном” плане откровенно холуйский “Хлеб” прикровенно лакейской трилогии? – пусть разбираются любители “чистого художества”, замешанного на натуральной грязи. Подлецами все-таки именуют отнюдь не тех людей, что злодействуют без перерыва на обед и выходных дней и ни за какие коврижки не согласятся совершить что-то доброе, – подлецами называются подлецы» (цит. по: [2]). Противовесом такой оценке звучит мнение: «Называть свою книгу о фактическом классике “Красный шут” – это уж слишком, это за гранью литературоведческих приличий» [Там же]. Знаток А. Н. Толстого С. Г. Боровиков подчеркивает, что такое название представляет собой хрестоматийный и слишком очевидный перифраз определения «красный граф», коренящегося в речи В. М. Молотова о писателе, иронически контаминировавшего прилагательное и существительное в этом словосочетании. Тот же исследователь справедливо замечает, что заглавие «Красный шут» мало связано с самим текстом, так как у А. Н. Толстого и в дооктябрьский период творчества было достаточно юмористических произведений, в то время как советские «Гадюка», «Пётр Первый» и др. нельзя отнести к «шуточным». Жизнью писателя такое определение также слабо подтверждается, считает С. Г. Боровиков, обращая внимание на различного рода экзистенциальные переклички несоветского и советского времени в его судьбе (в частности, зеркальность пощечин 1909-го (история с дуэлью М. Волошина и Н. Гумилева) и 1932 гг. (знаменитый эпизод с пощечиной О. Мандельштама) [Там же].
Полагаем все же, что использование неофициального титула А. Н. Толстого в качестве названия биографии продиктовано не только отмеченными причинами. В еще одном эпитекстовом образовании – опубликованной на сайте «Эхо Москвы» стенограмме радиопередачи «Книжное казино», посвященной выходу книги, – А. Н. Варламов косвенно касается темы «красного шута». На вопрос ведущей о том, можно ли испытывать жалость к герою-писателю, автор говорит о вызывающих жалость некоторых обстоятельствах его жизни [1]. Так, на наш взгляд, именно обозначенные А. Н. Варламовым события, связанные с получением А. Н. Толстым графского – «шутовского» – звания (отсюда «шут»), а также психологические и идеологические моменты, сопряженные с безрелигиозностью и неготовностью к смерти (отсюда «красный»), послужили основным соответствующим фактором. В то же время биограф подчеркивал, что его герой прожил жизнь удивительно счастливую и был на редкость удачлив, подобно шуту в обобщенном понимании, которому, проявленному в мире людей, доступны земные блага и сопутствует фортуна. Однако перед нами «красный шут», то есть расчетливый, условно говоря, «материальный», ибо красный цвет – символ материальности (помимо революционности, а значит, близости к власти), а потому достигнувший счастья своими трудами.
Есть простор для еще более смелой интерпретации заглавия – интертекстуальной. Метафорическое содержание образа Красного домино из различных стихотворений и романа «Петербург» и, что важно, из на- бросков к пьесе «Красный шут» Андрея Белого могло стать импульсом к его использованию А. Н. Варламовым. В стихотворениях «Маскарад» и «Праздник» Андрея Белого Красное домино фигурирует как таинственный фантом, появляющийся в моменты карнавальных торжеств, балов и маскарадов, олицетворяющих собою мир в целом, но «перевернутый» мир (как и в «Петербурге» – двойной мир, реальный и зеркальный). За маской Красного домино – Красного шута скрывается не демоническая сущность, а все же человек, оказывающийся жалким и беспомощным перед лицом трансформированного пространства. Можно воспринимать «перевернутый мир» как мир, перелицованный революцией, в котором оказался «красный шут» А. Н. Толстой, играющий придворные фантомные (хотя и депутатсткие) роли у Советской власти. Вероятна обратная трактовка: в балладе «Шут» образ Горбатого шута – свидетеля жизни Королевны – обнаруживает сходство с монотонностью и «грозной силой» времени, как А. Н. Толстой – свидетель жизни Сталина, из-под пера которого «если бы он дожил до 50–60-х оттепели <вышли бы><…> самые глубокие произведения о сталинизме» [Там же]. В романе «Петербург» образ Красного домино инфернализируется лишь на страницах бульварной газеты и в сознании сенатора, Софьи Петровны и обывателей подобно заклейменному в 1980–90 гг. образу «красного графа», хотя и там, и там слишком много «человеческого».
В итоге А. Н. Варламов отказывается от двухчастного заглавия книги, оставляя лишь «Алексей Толстой», как наиболее характерное для перитекста «ЖЗЛ».
Для подписей к бо́льшей части фотографий иллюстрационных вставок, относимых нами к затекстовым компонентам, используются цитаты из жизнеописания, выбор которых не случаен; расположение указанных компонентов подчинено своей логике, выражающей авторскую позицию. Так, подпись к фотопортрету, запечатлевшему А. Н. Толстого в детстве с матерью, звучит как «Полу-Толстой, полу-Бостром. Сын графа, но не дворянин» [3]. Фокусируясь на одном из важнейших фактов биографии А. Н. Толстого – его задокументированном происхождении, подробному рассказу о котором посвящена первая глава книги, А. Н. Варламов здесь актуализирует медиальный аспект социальной и сословной принадлежности писателя. Далее следует фотография, подписанная с акцентуацией на графский титул: «Молодой граф. Алексею Толстому 20 лет» [Там же]. Во второй фотовкладке, по сути, обобщающей жизненные и творческие достижения А. Н. Толстого, есть его портрет конца 30-х гг. ХХ в., надпись к которому коррелирует с обозначенной в ситуативном и историческом смысле: резюмирует постепенное и окончательное «превращение» героя из «графа» в «товарища». Она являет собой хрестоматийную для исследователей и любителей прозаика цитату В.М. Молото- ва: «Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской – товарищ А. Н. Толстой!» [Там же].
На связь расположения фотографий и цитат из текста обратили внимание А. В. Подчиненов и Т. А. Снигирева, обнаружившие аллюзий-ный характер знаменитой фотографии О.Э. Мандельштама 1934 года, «… на которой в глазах поэта видна обреченность, а вынесенная на первый план рука вызывает библейские ассоциации» [4, с. 153]. Для этого портрета А. Н. Варламов предлагает весьма категоричную и однозначную интерпретацию: «Рука, давшая пощечину графу» [3], которую вряд ли можно считать объективной, ибо фотография в некоторой степени знаменует начало ссылок поэта, прежде чердыньской, затем воронежской (1934–1937 гг.).
Кроме того, подписи к фотографиям могут приобретать вид авторских ремарок констатирующего или оценочного характера. В «Алексее Толстом» перитекстовый материал такого типа более частотен в первой вкладке, наглядно представляющей хронологию жизни героя до 1932 года, а также его непосредственное окружение. Некоторые подписи к фотографиям фиксируют роль отображенного на них человека в жизни или произведениях А. Н. Толстого. Так, на одной из фотографий А. А. Блок позиционируется как прототип персонажа известного романа писателя: «Бессонов из “Хождения по мукам”» [Там же].
Таким образом, интертекстуальный характер заголовочного комплекса и ассоциативность надписей к фотографиям в «Алексее Толстом» А. Варламова позволяют выявить разные текстологические планы анализируемых биографий, актуализирующие их исторические, культурологические, событийные и другие пласты (к примеру, сопряженность в едином событийном и культурном контексте значимых фактов (пощечина Н. С. Гумилева М. А. Волошину и пощечина О. Э. Мандельштама А.Н. Толстому).
Tver State University
Список литературы Структурно-семантические особенности заголовочного комплекса и иллюстративного материала книги А. Варламова "Алексей Толстой"
- Алексей Толстой серии ЖЗЛ [Электронный ресурс] // Эхо Москвы. Книжное казино. 02 декабря 2007. URL: http://echo.msk.ru/programs/kazino/56740/. (Дата обращения: 06.08.2020.)
- Боровиков С. Алексей Варламов. Красный шут. Биографическое повествование об Алексее Толстом. Графский роман-с [Электронный ресурс] // Журнальный зал. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2006/9/bo14.html. (Дата обращения: 06.08.2020.)
- Варламов А.Н. Алексей Толстой. М: Мол. гвардия, 2006. 591 с. [Электронный ресурс] // Zlibrary. URL: https://b-ok.cc/book/3229890/4a722b. (Дата обращения: 06.08.2020.)
- Подчиненов А. В., Снигирева Т. А. Литературная биография: Документ и способы его включения в текст // Филология и культура. 2012. № 4 (30). С. 152-155.
- Genette G. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge, 1997. 427 p.