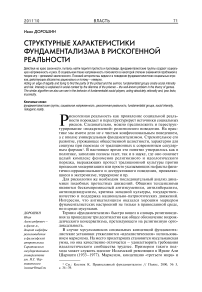Структурные характеристики фундаментализма в рискогенной реальности
Автор: Дорошин Иван Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Действуя на краю законности, пытаясь найти паритет протеста и проповеди, фундаменталистские группы создают социальную напряженность и риск. В социальном плане напряженность поясняется в некоторой степени знаменитой проблемой в теории игр - дилеммой заключенного. Похожий алгоритм мы видим и в поведении фундаменталистских социальных игроков, действующих абсолютно рационально и потому - неверно.
Фундаменталистские группы, социальная напряженность, рискогенная реальность
Короткий адрес: https://sciup.org/170165607
IDR: 170165607
Текст научной статьи Структурные характеристики фундаментализма в рискогенной реальности
Р искогенная реальность как проявление социальной реальности порождает и переструктурирует источники социальных рисков. Следовательно, можно предположить и переструктурирование «подкреплений» религиозного поведения. На практике мы имеем дело не с чистым конфессиональным поведением, а c вполне универсальным фундаментализмом. Стремительное его развитие, угрожающее общественной целостности, характерно для социума при переходе от традиционных к современным секулярным формам1. В настоящее время это понятие утвердилось как в политике, заполнив полосы газет, так и в науке, где оно означает целый комплекс феноменов религиозного и идеологического порядка, выражающих протест традиционной культуры против процессов модернизации или просто указывающих на факты фанатично-иррационального и деструктивного поведения, проявляющиеся в экстремизме, терроризме и пр.
Для рискологии же необходим последовательный анализ динамики подобных протестных движений. Общими тенденциями являются бескомпромиссный антиэкуменизм, антилиберализм, антииндивидуализм, критика западной культуры, государственничество и поддержка национально-патриотических движений. Интересно, что антикатолицизм оказался хорошим маркером фунаменталистских настроений не только в православной среде, но и среди мусульман.
ДОРОШИН Иван
Термин «фундаментализм» быстро вошел в словарь религиоведения за прошедшие три десятилетия как общее обозначение возрожденческого консерватизма, претендующего на религиозную ортодоксальность.
В случае мусульманских социальных концепций фундаменталистские установки утяжеляются «идеалистическим» использованием марксизма. На место пролетариата становится мусульманская умма, но она качественно отличается – удовлетворить требования идеалистического сообщества труднее. Примером такого подхода может служить идеолог Исламской революции в Иране Али Шариати (1933–1977). Марксизм, концепцию «третьего мира» и исламский реформизм он переписал в символах шиизма: необходимо активно осуществлять преображение общества в справедливое, вклиниваться в «ткани» истории, готовя общество к возвращению двенадцатого имама Махди, создавая государство ученых. Из российских авторов можно назвать Гейдара Джемаля (1947), философские взгляды которого также можно назвать исламским марксизмом1.
Сегодня слово «фундаментализм» используется для описания не только христиан-консерваторов, иранских революционеров, но и ультраортодоксальных иудеев, евангельских христиан, сикхов, буддистских борцов сопротивления и т.д. Нежелание заменить принципы конкуренции и насилия на принципы сотрудничества создали условия для появления мировой религиозной фундаментальной оппозиции, что явно изменило конфигурацию и содержание всей системы безо-пасности2. В России фундаментализм, по-видимому, подкрепляется еще и вполне «языческим преклонением перед силой и властью, приводящим к сервилизму перед государством, не совместимому с пророческой функцией»3. Речь здесь идет об изменении способа мышления.
До некоторой степени все люди – фундаменталисты. Стремление к возрождению – универсальная социальная тенденция. С одной стороны, социальное возрождение – это универсальная реализация религиозного «чувства», поведения, с другой – основание для манипуляции: не всякое возрожденческое действие является религиозным, но может выдаваться за таковое. Как правило, подмена касается религиозного традиционализма.
Общая ошибка непрофессионалов – стремление показать фундаменталистское движение как ограниченное и недавнее. Это типичный прием манипуляции – нарисовать яркую картину вызова доминирующему строю. Возрожденческий характер фундаменталистских движений, возможно, является самым существенным аспектом явления. У всех фундаменталистских дви- жений есть глубокие исторические корни. В основном все такие движения – естественное следствие человеческих процессов культурных изменений. Яркий исторический и имеющий отношение к доктрине прецедент вселяет уверенность в участников движения, при этом они должны как можно чаще показывать свою смелость и выделяться из окружающей массы. Движущие силы «оживления» тесно привязаны к межгрупповой динамике, поэтому их сложно однозначно маркировать. Показательным является программное упоминание силы и обвинений в слабости, духовная жизнь понимается как волевая и сильная, не считающаяся с личными жертвами, дискурс собственно религиозный – богопо-знания и богообщения – уходит на второй план. Это приводит к созданию программ физической подготовки и «мировоззренческого» тренинга авангарда. При этом члены фундаменталистских движений рассматривают себя как спасителей общества, что в состоянии оправдать почти любое действие.
Неумолимые обязанности, осуждение врагов и членов собственного движения – в конечном счете все это вынуждает более многочисленное общество видеть в них социальную угрозу либо источник риска. Даже когда их методы и стратегии являются мирными, напряжение рождает сложную рискогенную ситуацию, поскольку социальное большинство также не безответно, а фундаменталистски настроенный актор, как правило, не один.
Все эти движения неизменно порождают двойной миф. Этот миф связывает фантазийный «золотой век», собранный из осколков того блестящего витража, которым было когда-то настоящее, с утопическим будущим, минуя настоящее.
Для самоподдержки вырабатывается некая «специальная» ортодоксия, отличная от ортодоксии официальных структур. Антропологическое понимание этих движений было оформлено в работе Энтони Уолласа о «движениях оживления»4, которые концептуально эквивалентны фундаменталистским движениям возрождения. Выделяются следующие составляющие процесса. Во-первых, социальные изменения производят «культурную напряжен- ность» среди членов общества. Во-вторых, культурная напряженность производит попытку приспособления, но приводит к изменению в социальных образцах и, как следствие, к социальному разрушению. В-третьих, в ответ на культурную напряженность фундаментализм проявляется в форме «ортодоксального» повторного заявления культурных образцов через харизматических личностей.
Движения фундаменталистов самостоятельно вырабатывают социальные ограничения, нормальные социальные правила приостанавливаются в пределах движе-ния1. Участники подвергаются специальным ритуалам и обучению. Цель – создать расширенное толкование социальной драмы, навязать ограничения обществу, которые, в конечном счете, вызовут полное изменение. Из-за интенсивности, необходимой для такой деятельности, и потому что это обычно предпринимается меньшинством, цель полного социального преобразования достигается редко, но если достигается – то в форме социальной революции.
Интересную схему анализа фундаментализма в социальной структуре с привлечением работы Томаса Куна «Структура научных революций» предлагает Нильс Нильсен2. Набор аксиом и верований составляет парадигму, которая доминирует над мыслью в научном сообществе, пока им не будет брошен вызов измененными социокультурными обстоятельствами. Нильсен поясняет, что фундаменталисты демонстрируют отличную ортодоксальную парадигму, которая только и дозволена их сторонникам. Также он поясняет, что сам Кун признает подобие своих научных парадигм и религиозных парадигм в дискуссии с Гансом Кюнгом, который, кстати, аналогично видит развитие религии вообще.
Модель для определения составляющих фундаменталистской веры была также предложена Джеймсом Барром3 в работе «Фундаментализм» – пожалуй, одной из самых влиятельных в данной области. Он выделяет несколько основных фундамен- талистских особенностей: отдельное спасение, личное свидетельство веры, недействительность интерпретационного, герменевтического толкования Священного Писания.
Фундаментализм стремится изменить мир через обнародование собственной системы ценностей. Возможно, не существует никакого абсолютного отделения фундаментализма от других вариантов социальной активности. Элементы фундаменталистских взглядов могут быть замечены почти во всякой борьбе – вооруженной и мирной – против существующего порядка и правительства. Фундаменталистское «возрождение» может служить проверкой отрицательных тенденций в обществе, ориентиром для необходимых направлений социальных изменений. Действуя на краю законности, пытаясь найти паритет протеста и проповеди, фундаменталистские группы создают социальную напряженность и риск. Из-за этого смешанного набора эффектов должностным лицам иногда трудно решить, как взаимодействовать с фундаменталистами. Простое отделение их от общества может также оказаться угрозой общественному порядку.
Отличительная черта сознания фундаменталиста – восприятие ситуации риска как тотальной, абсолютной, латентной войны. Это выражается во многих идеях о мировом заговоре сионистов, масонов, мировой закулисы, священной войне и т.д. Это слишком похоже на массовые истерии в предшествующие эпохи. Фундаменталистская активность обратно пропорциональна гражданской – чем меньше активная группа, тем проще она провоцируется или реализует угрозы. При этом недемократическому правлению эта угроза выгодна, поскольку таким образом отчуждается и демонизируется собственный образ правящей элиты. При этом образ не тождественен в разные отрезки времени, и вбрасывается в ситуацию риска как катализатор событий.
В социальном плане напряженность поясняется в некоторой степени знаменитой проблемой в теории игр – дилеммой заключенного. Действуя строго рационально, участники отказываются от сотрудничества друг с другом, даже если это в их интересах. Похожий алгоритм мы видим и в поведении фундаменталистских социальных игроков, действующих абсолютно рационально и потому – неверно.