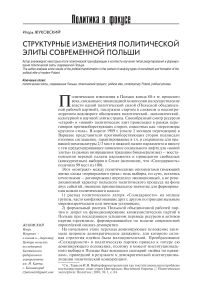Структурные изменения политической элиты современной Польши
Автор: Жуковский Игорь Игоревич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
Автор анализирует некоторые итоги политической трансформации в контексте изучения типов рекрутирования и формирования политической элиты современной Польши.
Политические элиты, современная польша, политический процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/170167097
IDR: 170167097
Текст научной статьи Структурные изменения политической элиты современной Польши
П олитические изменения в Польше конца 80-х гг прошлого века, связанные с ликвидацией монополии на осуществление власти одной политической силой (Польской объединен -ной рабочей партией), послужили стартом в сложном и неконтро-лируемом водовороте обновления политической, экономической, культурной и научной элиты страны. Своеобразный смотр ресурсов «старой» и «новой» политических элит происходил в рамках пере -говоров противоборствующих сторон, известных как «переговоры круглого стола». В апреле 1989 г. (после 2 месяцев переговоров) в Варшаве представители противоборствующих сторон подписали итоговое соглашение, гарантировавшее в т.ч. и сохранение для пра-вящей номенклатуры 2/3 мест в нижней палате парламента и вместе с тем предусматривавшее появление социального лифта для «новой элиты» (в рамках возвращения традиции бикамерализма) — восста-новления верхней палаты парламента и проведения свободных (конкурентных) выборов в Сенат (вспомним, что «Солидарность» получила 99 мест из 100).
Этот «контракт» между политическими оппонентами (имеющий явные следы «первородного греха»: ведь выборы, по сути, остались нечестными — договорными) определил эволюционный, а не рево-люционный характер польского политического процесса на фоне двух событий, имевших принципиальное значение для формирова-ния нового политического класса:
На начальном этапе перехода доминирующее положение зани-мало широкое демократическое движение, для которого сило -вая стратегия идейно была малоприемлемой. Преобразование «Солидарности» в политическую партию привело к потере ею доминирующего положения, поэтому в момент институциональ ного выбора в Польше был воплощен сценарий «война по прави лам», приведший в результате к демократической институциона лизации политической конкуренции1.
Таким образом, одним из важнейших механизмов рекрутирования новой политической элиты стала политическая конкуренция: посткоммунистическая элита боролась за место под солнцем (условно свободного в рамках первого электорального цикла) с представите -лями лагеря «пост-Солидарности».
Основными направлениями политиче -ских преобразований 1990-х гг. — начала XXI в. в Польше стали: формирование демократического правового государства, разделение властей, становление полити ческого плюрализма и гражданского обще -ства. А. Ричард и Э. Внук - Липиньский различали следующую очередность фаз перехода1:
-
1) начальная фаза, когда запущены соци-альные процессы «трансформативной силы», способные преобразовать старый режим в новую общественную систему;
-
2) межсистемная фаза, когда старая система уже не функционирует, а новая лишь начинает возникать;
-
3) продвинутая фаза, когда критиче -ская масса перемен достигнута, а старая система определенно уходит в историю;
-
4) постреволюционная фаза, характери-зующаяся исчезновением революционной эйфории и вступлением в новую систему повседневного опыта для общества;
-
5) фаза консолидации, в которой система стабилизировалась и практически становится в общественной жизни един ственно доступным полем игры по поводу интересов и ценностей.
В отдельных фазах легитимация новой системы строится на меняющихся посыл ках, а консолидация — результат успеха трансформации старой системы в преды дущей фазе.
В польском случае институциональ ного дизайна, когда за политическими партиями признается главная органи зующая сила политического процесса, именно партийные политические элиты являются кадровым ресурсом релевант ной политической элиты, оказываю щей реальное влияние на формирование политического курса страны (категория релевантности в политическом процессе была подробно описана еще в классиче ских работах Дж. Сартори). Необходимо различать две важные группы, составля ющие релевантную политическую элиту любой страны: группу кабинетной (пра вительственной) и выборной (делегиро ванной) элиты.
К группе выборной элиты мы относим членов парламента Республики Польша (нижней палаты — сейма и верхней палаты — сената), руководителей региональных парламентов, членов Европейского пар -ламента, членов ряда руководящих кол легиальных структур, играющих значи мую политическую роль, но не входящих ни в одну из вышеперечисленных групп (таких, как Совет национальной безопас ности, Национальный совет по телеви дению и радиовещанию и др.). К этой группе относится президент страны, в то время как его аппарат — канцелярия пре -зидента — относится к группе кабинетной элиты.
Механизм конструирования кабинетной (правительственной) элиты достаточно прост: это преимущественно назначаемые должности — министры и их политиче -ский кабинет, представители правитель ства в воеводствах страны и их политиче ские кабинеты. Соответственно, принцип их рекрутирования определяется волей политического лидера, получившего право формирования правительства по итогам парламентских выборов. Второй фланг этой группы — администрация пре -зидента Польши, где работает подобный механизм: президент назначает своих министров в администрации, создавая из своих ближайших соратников «опорную группу». Премьер министр относится к кабинетной элите, являясь чиновником, назначаемым президентом.
Конструирование правительственной элиты — это нормативный процесс, кото -рый регулируется довольно жестко: от механизма назначения премьер министра до формирования политического кабинета министерства. Конституция 1997 г. дает премьер министру довольно большую свободу в вопросах формирования каби нета: не ограничено число вице премьеров и самих министерств и министров. Существует возможность назначения «министров без портфеля» — специальных уполномоченных правительства, кото рые занимаются конкретной проблемой или выполняют функции, не связанные с работой министерства.
В современной Польше можно выде- лить несколько типов рекрутирования кабинетной элиты1:
-
1) партийный (именно партийная принадлежность дает возможность войти в состав кабинета министров либо в состав политического кабинета министра);
-
2) карьерный (продвижение по государственной службе в рамках карьеры чиновника);
-
3) профсоюзный (принадлежность к руководству профсоюза дает возможность политического участия на самом высоком уровне, минуя ряд предварительных инстанций);
-
4) парламентский (вхождение в правительственную элиту становится возможным благодаря активной депутатской работе; как правило, руководители парламентских специализированных комиссий – это ближний кадровый резерв любого правительства);
-
5) экспертный (политическая карьера является следствием признания в политической среде академического либо экспертного статуса);
-
6) корпоративный (вхождение в политическую элиту как результат конвертации высокого статуса в политический капитал – статуса предпринима-теля, деятеля культуры, лидера профессионального сообщества).
Отдельным вопросом, заслуживающим внимания при подготовке типологии процессов рекрутирования политических элит, является вопрос о рекрутировании представителей польских диаспор – граждан иностранных государств, т.е. представителей польских диаспор в США, Великобритании, Франции, Германии и т.д. В связи с появлением новых, небазовых противоречий политической повестки дня уходят в прошлое экстраординарные типы рекрутирования, связанные с привлечением на высокие государственные посты граждан иностранных государств польского происхождения либо бывших граждан Польской Народной Республики, эмигрировавших по различным причинам (довольно часто объявлявшихся политическими и мировоззренческими после возвращения из эмиграции) и получивших второе либо двойное гражданство – уже современной Республики Польша.
Феномен активного рекрутирования членов политической элиты из диаспо-рального сообщества может быть объяснен необходимостью поиска связей, соединяющих страну с демократическим прошлым (реальным и приукрашенным) и национальной историей, «прерванной» коммунистическим режимом. Восприятие непрерывности политической истории становится возможным, когда члены диаспоры возвращаются на родину, чтобы занять руководящую должность на политической арене2.
Польские правительства, оказавшиеся в сложной экономической и политической ситуации в начале 90-х гг. прошлого века, вынуждены были прибегать к политической, экспертной и аналитической поддержке своих новых внешнеполитических партнеров – США, В еликобритании, Франции, Германии. Такая поддержка оказывалась по линии межправительственных договоренностей при посредничестве международных финансовых и аналитических институтов в виде оплаты услуг высококлассных консультантов по различным вопросам финансовой, экономической, оборонной и внешней политики. Осознавая пикантность ситуации, польские руководители предпочитали работать с зарубежными консультантами польского происхождения, на определенном этапе предлагая им восстановить либо получить впервые польское гражданство в целях подтверждения лояльности эмигрантов, занимавших высокие посты в польских министерствах и ведомствах.
В этом смысле показательны карьеры Радослава Сикорского, министра иностранных дел в правительствах Дональда Туска, министра обороны в правительстве А. Марчинкевича и др., а также Яцека Ростовского, министра финансов в правительстве Дональда Туска. Указанные политики, являясь на предыдущем этапе своей карьеры заместителями министров по своим профилям, имели двойное либо второе гражданство – Великобритании, что вызывало настороженное отношение к ним в обществе и соответствующую реакцию контрразведывательных служб, осуществлявших негласное наблюдение за этими политиками в середине 90-х гг. прошлого века.
В польском случае, описывая рекрутирование политических элит, мы имеем дело с «эффектом колеи» ( path dependence ), который выражается в том, что, ощущая свой «первородный грех» наследников политического противостояния по линии «посткоммунистические элиты – постантикоммунистическая оппозиция», политические лидеры конца XX – начала XXI в. вынуждены были предъявлять более жесткие компетентностные (неполитические) требования к новым поколениям управленцев и представителям кабинетных и делегированных элит. Следствием этого стало создание специализированного учебного заведения, которое должно было, по замыслу его учредителей, стать кузницей кадров для нового поколения политических и административных институтов страны, – KSAP (Национальная школа администрации)1.
Понятно, что ни один метод рекрутирования элиты не является раз и навсегда высшим или низшим, правильным или неверным: главное то, что он должен быть функционален по отношению к социальным и культурным системам. Рекрутирование элиты всегда базируется на неформальных или формальных правилах политического участия и национальном контексте. Как отмечают американские социологи Р. Лернер, А. Нагаи, С. Ротмен, «с течением времени критерии рекрутирования элиты изменяются, становятся более сложными и дифференцированными, поскольку само общество становится все более сложным.
В прошлом они базировались на религии, классовой структуре, традиции, затем – на членстве в военной социальной представительности элиты, теперь главным признаком выступает организационная принадлежность руководителей. Она прямо связана с их ценностными ориентациями. Кроме того, партии и другие организации обычно имеют достаточно возможностей для воздействия на своих представителей в нужном направлении»2.
Среди исследовательских вопросов о стратификации элит вопрос об образовании, а точнее, об университетах, которые окончили политики и чиновники высшего ранга, всегда стоит особняком. Есть ли традиционные «фабрики элит», которые являются alma mater для большой части высшего руководства страны? Сколько представителей политической и управленческой элиты получили образование в зарубежных университетах? Можно ли составить рейтинг университетов на основе данных об образовании, полученном высшим политическим руководством страны?
По подсчетам К. Лешчинской3, профессора университета Марии Скло-довской-Кюри в Люблине, 98% всех чле нов кабинетной элиты в Польше имели высшее образование, в то же время у первого некоммунистического премьер-министра Польши Т. Мазовецкого его не было (он начинал обучение на факультете права и администрации Варшавского университета, но не окончил его). Сопоставив официальные биографические данные представителей элит, автор подготовил рейтинг классических университетов Польши по числу представителей политических элит, окончивших указанный университет (см. табл. 1).
Для современного демократического государства типична институционализация власти, ресурса, социального статуса. Иными словами, крупный промышленник, известный ученый, уважаемый профсоюзный деятель рано или поздно становятся активными игроками политического процесса, в т.ч. и в составе элиты – правительственной либо делегированной.
Фактором, обусловливающим действенность тех или иных механизмов рекрутирования политических элит, в случае Польши стал фактор завершения системной трансформации и стабилизации партийной системы: произошло преодоление посткоммунистического характера партийной системы, выража-
Таблица 1
Рейтинг университетов Республики Польша по числу выпускников – представителей высших органов власти
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 12-03-00393а «Сравнительный анализ моделей формирования “новых политических элит” Литвы и Польши».