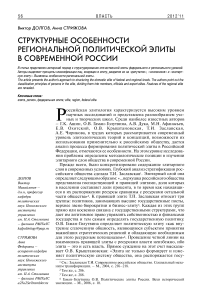Структурные особенности региональной политической элиты в современной России
Автор: Долгов Виктор Михайлович, Стрижова Анна Федоровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен авторский подход к структурированию отечественной элиты федерального и регионального уровней. Авторы выделяют принципы классификации лиц, входящих в элиту, разделяя их на «депутатов», «чиновников» и «экспертную элиту». Выявлены особенности региональной элиты.
Элита, регион, федеральная элита
Короткий адрес: https://sciup.org/170166139
IDR: 170166139
Текст научной статьи Структурные особенности региональной политической элиты в современной России
Р оссийская элитология характеризуется высоким уровнем научных исследований и представлена разнообразием ученых и творческих школ. Среди наиболее известных авторов – Г.К. Ашин, О.В. Гаман-Голутвина, А.В. Дука, М.Н. Афанасьев, Е.В. Охотский, О.В. Крыштановская, Т.И. Заславская, А.Е. Чирикова, в трудах которых рассматривается современный уровень элитологических теорий и концепций, возможности их использования применительно к российскому обществу, дается анализ процесса формирования политической элиты в Российской Федерации, отмечаются ее особенности. На этом уровне исследования проблемы определены методологические позиции в изучении элитарного слоя общества в современной России.
Прежде всего, было конкретизировано содержание элитарного слоя в современных условиях. Глубокий анализ стратификации российского общества сделала Т.И. Заславская1. Элитарный слой она определяет следующим образом: «…верхушка российского общества представлена господствующей и правящей элитами, доля которых в населении составляет доли процента, в то время как находящиеся в их распоряжении ресурсы сравнимы с ресурсами остальной части общества»2. К правящей элите Т.П. Заславская относит три группы: политиков, занимающих высшие государственные посты, верхнее звено бюрократии и бизнес-элиту3. Каждая из этих групп прямо или косвенно связана с государственными структурами, что дает им легитимное право управлять собственностью и финансами государства и тем самым определять государственную политику. О.В. Гаман-Голутвина определяет политическую элиту «как внутренне сплоченную общность, являющуюся субъектом принятия важнейших стратегических решений и обладающую необходимым для этого ресурсным потенциалом»4. Проведение четкой линии на взаимосвязь правящей элиты с ресурсами власти неизбежно, ибо элита – это и есть власть. Прямое суждение на этот счет высказывает О.В. Крыштановская: «Элита не только формирует и изменяет политическую систему общества, она распоряжается госу- дарственной политикой и в этом смысле является собственником государства»1.
Во-вторых, разработаны научные методики внутреннего структурирования политической элиты, определены элитные группы российского общества с конкретными характеристиками и властной функциональностью. Важнейшим критерием такого структурирования обычно называются характер отношения к государственной власти, масштаб властных возможностей и полномочий. О.В. Крыштановская по этому поводу пишет: «Политический класс неоднороден: внутри себя он имеет группы, различающиеся функциями, характером деятельности, объемом властных полномочий, способами рекрутации и проч.»2. Самое общее структурирование осуществляется на основе типа инкорпорации – избрание или назначение. Здесь очевидны две элитарные группы – избираемые депутаты парламента и назначаемые на должность чиновники высокого ранга, т.е. высшая бюрократия. Первая группа – депутаты – наиболее легитимная часть элиты, они избираются народом и представляют общество. Эту группу целесообразно назвать представительной элитой. Вторая группа – чиновники, государственные служащие высшего уровня, статусное положение которых определяется компетенцией управленческого характера и определенным уровнем политической ответственности. Данную группу можно определить как административноуправленческую элиту. Обе эти группы подробно исследуются современной наукой, характеризуются и оцениваются с различных идеологических и методологических позиций. Каждая из них вполне самостоятельна в политическом процессе, хотя границы между ними, особенно в современных российских условиях, достаточно условны: нередко депутаты после избрания на выборах становятся чиновниками, а те, напротив, могут оказаться депутатами.
Однако такое структурирование политической элиты, по нашему мнению, недостаточно. Для полноты картины следует выделить еще одну – третью – группу элиты. Ее представители фигурируют во многих исследованиях, рассматриваются в качестве элиты, но в самостоятельную группу не выделяются. Речь идет об авторитетных и влиятельных в масштабах страны представителях различных сфер общества. В эту группу следует включить руководителей массовых объединений граждан, влиятельных бизнесменов, представителей СМИ, науки, культуры, способных воздействовать на политический процесс. Сюда же следует отнести признанных всем обществом авторитетных граждан, оказывающих на власть и общество интеллектуальное и нравственное влияние. Таких, к примеру, как Д.С. Лихачев, А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, С.Л. Капица, а из ныне здравствующих – Ж.И. Алферов, Е.М. Примаков, Л.М. Рошаль, Н.С. Михалков и др. Представители данной группы не имеют непосредственного доступа к государственной власти, но располагают ресурсами влияния на нее, в т.ч. через экспертные заключения, оценки и рекомендации. Эту часть политической элиты можно назвать экспертной элитой. Такое название подчеркивает содержание ее функционального предназначения и компетенций.
Структурирование политической элиты имеет не только горизонтальный, но и вертикальный вариант. Для федеративного устройства России такой вариант просто неизбежен. В этом случае все группы, составляющие политическую элиту федерального уровня, должны быть представлены в субъектах РФ. Конечно, такой подход не должен доводиться до абсурда: многие субъекты России по своим масштабам и ресурсному потенциалу просто не в состоянии повторять федеральную структуру правящего слоя. Но проведенный нами анализ показывает, что и крупные регионы России не повторяют ту структуру политической элиты, которая задается на федеральном уровне.
Научные исследования региональных политических элит России начались в 1990-е гг. и активно продолжаются в настоящее время. Широкую известность в научных кругах получили работы С.И. Барзилова, А.К. Магомедова, В.И. Осипова, А.В. Понеделкова, Э.А. Зелетдиновой, М.Х. Фарукшина, А.Г. Чернышова, Р.Р. Галямова, А.Н. Николаева, В.П. Мохова, А.М. Старостина и ряда других исследо- вателей1. Разнообразная проблематика и широкая география их исследований, выполненных на оригинальном фактоло -гическом материале, дают разносторон-нее представление о процессе формиро-вания политических элит, их качествен -ных характеристиках, идейных позициях, управленческой эффективности в Северо -Западном, Центральном, Поволжском, Северо - Кавказском регионах страны. В меньшей степени изучено структуриро вание региональных элит, особенности их характеристик в сравнении с элитой феде рального масштаба. Выявляется специ фика национальных элит в республиках, рассматриваются профессиональный и социальный составы элитарных групп, механизмы их становления в отдельных регионах страны. В частности, обще -российское звучание получил в 1990-х гг. вывод С.И. Барзилова и А.Г Чернышова о распространенности в региональных элитах «синдрома сельских парней»2. Проблеме структурирования политиче ских элит на региональном уровне вни мания уделялось мало, возможно, по при чине ее неустойчивости, подвижного и нечеткого состояния.
В настоящее вр емя обеспечивается достаточная для изучения элит стабиль ность региональных политических про странств. Сформировалась определенная традиция организации и функциониро вания региональных политических групп управления. Они доступны для наблюде-ния и анализа на основе уже обозначенных методов исследования. Проведем такой анализ, пусть даже схематичный, путем сравнения структур региональной элиты Саратовской обл. и элиты федерального уровня. При этом следует иметь в виду, что политическое развитие Саратовской обл. близко к состоянию большинства субъектов РФ, хотя, конечно, во многих из них имеются какие либо особенные характе ристики.
Первое, что совершенно очевидно, - в регионах нет экспертной элитной группы. Формально она существует, но, кроме Москвы, лишь только в Санкт- Петербурге она соответствует обозначенным функциям. В других областях и республиках нет такого уровня гражданского обще ства, который способен выделить подоб ную группу. В Саратовской обл. сохрани -лись традиции общественного уважения к системе образования, науки, культуры, искусства. Из этих сфер вышло немало общественных деятелей, но теперь руко водители вузов, театров, творческих орга низаций практически не входят в эксперт ное сообщество. Они либо тесно связаны с правящей партией, либо общественно пассивны. В среде журналистов нахо-дятся активные, независимые эксперты, но их оценочные суждения редко учиты ваются региональной властью. Важной частью экспертной элиты призваны быть представители общественных организа ций, дающие независимые оценки регио нальной политике с позиции интересов населения. В области - десятки обще -ственных, некоммерческих организаций, но из них лишь небольшая часть активно участвует в общественно политическом процессе. Мы проанализировали состав руководителей-«общественников» и счи-таем, что он мало соответствует совре менным задачам экспертной элиты даже на региональном уровне.
Нами были исследованы около 20 био -графий публичных персон этой группы, которые были опубликованы на офици альных интернет сайтах Общественной палаты Саратовской области и сайтах самих организаций3. Профессиональный опыт, предшествующий сосредоточе нию на общественной деятельности, для руководителей НКО значим как пока затель наличия необходимых навыков для последующей работы с населением. С этой точки зрения стоит выделить три значительные группы общественников: бывшие представители власти или бизнес -структур; люди, не имеющие иного опыта работы, помимо работы в общественной организации (зачастую возглавлявшие ее с момента организации), а также рабо-тающие по специальности, представля-ющей интересы группы, объединенной задачами организации (профессиональное сообщество). К первым можно отнести значительную долю специалистов, которые долгие годы посвятили работе в аппарате комсомола, КПСС, а также занимали руководящие посты в органах исполнительной власти или избирались в качестве депутатов в областную Думу первых созывов (В.М. Боброва, В.С. Агапов, А.Э. Джашитов и др.). Такая характеристика для многих является естественной в силу возраста. Эти люди в течение длительного периода трудовой деятельности как достигли значительных постов в профессиональной деятельности, так и прошли значительный путь в госструктур ах. Вторую группу можно назвать «профессиональными общественниками», стаж работы которых по специализации является более скудным, нежели общественный опыт работы (напри -мер, О.В. Коргунова, Н.Ю. Калякина, О.Н. Пицунова и др.). Нельзя не отметить, что большинство представителей этой подгруппы самостоятельно создали общественную организацию и посвятили все свое время реализации ее задач. Третья подгруппа – это профессионалы, которые по итогам работы на своей должности решили посвятить себя отстаиванию интересов своих коллег, а также доносить их до других представителей общественности в сформулированном виде (например, Л.Н. Златогорская, возглавляющая Саратовское региональное отделение Союза журналистов России). Также стоит отметить, что средний срок работы в сфере общественных отношений для рассматриваемой группы значителен по сравнению с чиновниками и депутатами – он составляет около 19 лет. Все это вместе взятое, конечно, проявляется в качественном составе и эффективности деятельности Общественной палаты Саратовской области.
Второе, что выявляется в ходе сравнительного анализа, – низкая эффективность представительной части элиты. Такая характеристика обусловлена несколькими причинами. Уже на стадии выдвижения кандидатов в депутаты областной Думы существенно зауживаются возможности общественного выбора. Кандидаты подбираются в штабах политических партий при согласовании с федеральным руководством этих партий. И в это время на первый план выходят интересы партий, а не регионального сообщества. В ходе самих выборов, которыми максимально управляет исполнительная власть, круг реальных кандидатов становится совсем узким. Можно сказать, что состав региональных парламентов почти на 100% предопределен заранее. Механизм подбора кандидатов заключается в том, чтобы создать парламент из «своих» людей, поэтому учет политических качеств будущего депутата, его возможности представлять общество, работать с людьми отодвигается на второй план. В руководящем ядре Саратовской областной думы образца 2012 г. 82% составляют люди негуманитарных профессий, между тем, главной сферой их деятельности должно быть законотворчество. Маловероятна самостоятельная позиция, инициативность таких депутатов-«назначенцев».
Наряду с узостью состава депутатского корпуса, существенной причиной низкой эффективности региональных парламентов является повсеместное несоблюдение одного из базовых принципов демократического правления – разделения властей. Все это характерно и для федерального уровня государственной власти, но в регионах проявляется жестче и откровеннее. Представительные органы власти находятся как бы под контролем исполнительной власти и в своей деятельности руководствуются ее указаниями. Данная ситуация остро ставит вопрос о том, кого же «представляет» представительная элита. Одновременно с региональными обстоятельствами, определяющими уровень эффективности местных парламентов, необходимо сознавать влияние на них того характера федеративного демократического государства, который утвердился в современный период. Его можно определить как федерализм, допускаемый централизмом, т.е. ограниченный федеральным центром. Предусмотренное Конституцией РФ содержание российского федерализма1, обусловленное исторически и политически, логично и целесообразно. Однако на практике уравновешивание в использовании принципов федерализма и централизма для огромной и разнообразной России всегда было и впредь останется сложно исполнимой политической проблемой. Даже небольшое преобладание одного немедленно приводит к ущемлению другого. Необходимое укрепление «вертикали власти», осуществленное руководством страны в нулевых годах, привело к ослаблению авторитета и возможностей региональных парламентов. Региональные представительные элиты испытывают явный недостаток политической силы и властного влияния.
Третья особенность касается административно-управленческой элиты и заключается в довольно низком уровне ее самостоятельности и независимости от федерального правительства. Зависимость региональной исполнительной власти от центра проявляется по многим линиям отношений: в кадровом вопросе (губернаторы практически назначаются президентом РФ), в финансовом отношении (бюджеты большинства субъектов РФ дотаци-онны), в управленческо-правовом аспекте (все нормативные акты правительства РФ, распоряжения федеральных министерств обязательны к исполнению в регионах). Все эти «зависимости» не только ограничивают региональную политику, но и снижают уровень ответственности местных правительств. Во-первых, при необходимости всегда можно сослаться на «установки» Москвы. Во-вторых, перед региональным сообществом отчитываться не так важно, т.к. не оно формировало исполнительную власть и наделяло губернатора полномочиями.
Несамостоятельность региональной исполнительной власти приводит, по нашему мнению, к снижению требований, предъявляемых к ее компетенции, а вслед за этим – и к падению уровня ее ответственности за собственную деятельность, за результаты проводимой региональной политики. Между тем, без профессионализма и компетенции в сфере управления исполнительная власть уже не предстает перед обществом в качестве элиты1. Формальные характеристики руководящего состава правительства Саратовской обл. (25 персон) свидетельствуют о его высоком профессиональном уровне. На 1 июня 2012 г. около 50% руководителей в правительстве губернатора В.В. Радаева составляли люди с двумя и тремя высшими образованиями, 53% – с ученой степенью. Но примерно такие же показатели профессионального образования имело правительство предыдущего губернатора П.Л. Ипатова, не сумевшее обеспечить эффективное социально-экономическое развитие области и оставившее наследство в виде бюджетного долга в 36 млрд руб. при годовом бюджете в 60 млрд руб.2 Средний возраст правительства В.В. Радаева на 10 лет меньше, чем правительства П.Л. Ипатова, и составляет 45 лет. Это означает, что данные управленцы трудятся более 20 лет, что вполне достаточно для формирования хорошего руководителя. Но все это еще не гарантирует успешное руководство областью. Понятно, что здесь проявляются многие факторы, главный из которых – поддержка центра в лице правительства и правящей партии «Единая Россия». Иными словами, зависимость областного правительства от федеральной власти неизбежна в силу особенностей самой политической структуры российского общества.
Наш анализ показывает, что региональная элита как субъект политики – необходимый элемент политической системы, что отражается в реальной практике. В ней даже можно выявить некоторые функционально особые группы. Однако ее структурирование существенно беднее, чем у политической элиты федерального уровня, что сказывается на эффективности ее деятельности. В интересах повышения уровня продуктивности необходимо усиление роли местного сообщества в формировании региональной элиты и контроле за ее деятельностью, а также создание условий для повышения и выявления ее самостоятельности в проведении региональной политики и ответственности за конечный результат. Региональная элита призвана быть проводником федеральной политики, но вместе с тем – и лоббистом интересов региона, организатором развития всех его общественно значимых сфер. В такой элите нуждается местное сообщество.