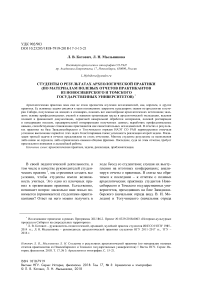Студенты о результатах археологической практики (по материалам полевых отчетов практикантов из Новосибирского и Томского государственных университетов)
Автор: Котович Лидия Владимировна, Мыльникова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Преподавание археологии в вузах
Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Археологическая практика пока еще не стала предметом изучения исследователей, как, впрочем, и другие практики. Ее основные задачи сводятся к трем положениям: закрепить и расширить знания по археологии и истории Сибири, полученные на лекциях и семинарах, показать все многообразие археологических источников; заложить основы профессиональных умений и навыков организации труда в археологической экспедиции, ведения полевой и финансовой документации, первичной камеральной обработки материалов, полевой реставрации и консервации находок, предварительной интерпретации полученных данных; выработать профессиональные навыки, способствующие становлению практикантов как самостоятельных исследователей. В отчетах о результатах практики на базе Западносибирского и Тогучинского отрядов ИАЭТ СО РАН первокурсники отмечали успешное выполнение первой из этих задач. Констатирована также успешность реализации второй задачи. Реализация третьей задачи в отчетах представлена не столь отчетливо. Многие студенты результаты ее выполнения либо никак не отразили, либо ограничились самыми общими фразами. Последнее, судя по этим отчетам, требует пристального внимания и дальнейшей работы.
Археологическая практика, задачи, реализация, проблематизация
Короткий адрес: https://sciup.org/147219921
IDR: 147219921 | УДК: 902/903 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-3-15-21
Текст научной статьи Студенты о результатах археологической практики (по материалам полевых отчетов практикантов из Новосибирского и Томского государственных университетов)
В своей педагогической деятельности, в том числе в качестве руководителей студенческих практик 1, мы стремимся создать все условия, чтобы студенты имели возможность учиться. Это одно из ключевых правил в организации практики. Естественно, возникает вопрос: насколько наш посыл понимается (принимается) студентами-практикантами? Ответ на него можно получить в ходе бесед со студентами; слушая их выступления на итоговых конференциях; анализируя отчеты о практиках. В статье мы обратимся к последним – к отчетам о полевых археологических практиках студентов Новосибирского и Томского государственных университетов, проходивших на базе Западносибирского (начальник отряда акад. В. И. Мо-лодин) и Тогучинского (начальник отряда
* Исследование проведено в рамках Программы XII.186.2. Проект № 0329-2018-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».
д-р ист. наук Л. Н. Мыльникова) археологических отрядов в 2015–2017 гг. на памятниках Тартас-1 и Венгерово-2.
Выбор остановлен на археологической практике по двум причинам. Во-первых, она завершает первый год обучения в вузе и является его своеобразным комплексным итогом. Во-вторых, это возможность получить некоторые результаты и прописать образовательный маршрут на перспективу, т. е. это вероятность реализовать индивидуальный подход в подготовке специалистов-бакалавров.
Сразу отметим, что археологическая практика пока еще не стала предметом пристального научного изучения, как, впрочем, и другие практики. Этот вывод вытекает из анализа тематики диссертационных работ и материалов журнальной периодики. С 1937 по 1997 г. из общего числа 1 610 работ на соискание докторской степени по педагогике вузовской проблематике посвящено не более 10%, из них непосредственно педагогической или археологической практике – ни одной [Оганесян, 2006. С. 4]. Практики не стали предметом активного обсуждения и на страницах специализированных журналов, например издания «Высшее образование в России» 1. С 2002 г. в России действует международная конференция «Полевые студенческие практики в системе естественнонаучного образования вузов России и зарубежья». Статистика показывает, что археологи принимали активное участие и имели публикации только в материалах третьей конференции [Полевые практики…, 2009]. В 2017 г. в материалах по итогам работы пятой конференции по археологическим практикам опубликовано две статьи [Новикова и др., 2017; Умеренкова, 2017].
Основная цель полевой археологической практики заключается «в закреплении у студентов базовых теоретических знаний о со- временных методах и приемах проведения археологических разведок и стационарных раскопок памятников разных видов, формировании ряда практических навыков использования методов и приемов ведения археологических изысканий на практике в ходе полевых исследований, развитии исследовательского подхода к изучению вещественных памятников – основных источников информации по древнейшей истории России». Полевая археологическая практика является дополнением, необходимым для понимания главных положений, излагаемых в курсах «История отечественной археологии», «Археология палеолита», «Археология неолита», «Археология палеометалла», «Археология железного века», «Археология Средневековья», «История первобытного общества», «История Сибири», «Основы антропологии и расоведения», «Палеоэкология человека». Она призвана наполнить учебные лекционные курсы реальным содержанием на основе материалов из конкретных археологических памятников; показать все многообразие и важность полученных при участии студентов археологических источников для реконструкции исторического прошлого; и одновременно способствовать вовлечению студентов в научный поиск. Большую роль археологическая практика играет в воспитании коллективизма, привитии трудовых навыков и развитии научных интересов. Основные задачи, которые формулирует руководитель археологической практики студентам, сводятся к трем положениям: закрепить, углубить, расширить знания по археологии и истории Сибири, полученные на лекциях и семинарских занятиях, показать все многообразие археологических источников; заложить основы профессиональных умений и навыков организации труда в археологической экспедиции, ведения полевой и финансовой документации, первичной камеральной обработки материалов, полевой реставрации и консервации находок, предварительной интерпретации полученных данных; выработать профессиональные навыки, способствующие становлению практикантов как самостоятельных исследователей.
Во время прохождения полевой практики на базе Западносибирского и Тогучинского отрядов студенты разных вузов находились в одинаковых условиях. Все участники были разделены на группы и прикреплены

Рис. 1 . Лекция проф. Г. Парцингера (Берлин, Германия) с участием академика РАН В. И. Молодина (Новосибирск, Россия) во время научно-производственной практики 2016 г. на базе Западносибирского археологического отряда
к памятнику, на котором с ними, кроме руководителя, работали сотрудники ИАЭТ СО РАН и студенты старших курсов. В течение времени может проходить ротация, так чтобы каждый практикант имел возможность знакомства со всеми видами памятников, находящихся в работе. Перед началом исследования проводился инструктаж по технике безопасности, распорядку жизни в лагере, методике раскопок. В мероприятия практики, помимо непосредственной работы на раскопе, включались экскурсии по памятникам Венгеровского археологического микрорайона, лекции специалистов ИАЭТ СО РАН и специалистов – гостей отряда, имеющие формат общего обзора изученности и современного состояния проблем мировой и сибирской археологии.
В своих отчетах о результатах практики первокурсники указывали на задачи, которые стояли перед ними: «…в данной работе, передо мною были поставлены… задачи» 2; «Передо мной, как участником археологической экспедиции, были поставлены следующие задачи»; «...я выполнял археологи- ческую практику (…) в целях выполнения образовательной программы». Далее они переходили к описанию (характеристике) реализации задач. Заметим, что во многих отчетах практиканты говорили о полученных навыках жизни и сотрудничества в экстремальных полевых условиях со студентами разных вузов, с «начальством» в лице академиков, докторов, кандидатов наук. Но этого сюжета мы не касаемся, так как он требует отдельного рассмотрения.
Все студенты-практиканты в отчетах отмечали, что на практике успешно выполнена первая задача: «...узнала много нового о различных археологических культурах»; «...узнала специфику материальной культуры исследуемых объектов»; «...я получил курс лекций, так или иначе связанных с раскопом… особое внимание заслуживает лекция по палеогенетике, так как с такой дисциплиной редко можно самостоятельно ознакомиться»; «...я пришла к выводу, что Сибирь является источником богатейшего собрания археологических объектов, погребений и артефактов»; «...в результате практики были расширены знания об археологии Сибири» и т. п. (рис. 1).

Рис. 2. Работы на поселении Венгерово-2 в рамках научно-производственной практики 2016 г.

Рис. 3. Ведение студентами письменной документации в рамках научно-производственной практики 2016 г.
Можно констатировать, что, во-первых, студенты встраивают дополнительные знания, полученные на практике, в систему знаний, которая сложилась в результате обучения на первом курсе; во-вторых, формируется задел для работы на будущих практиках.
Единодушны были наши подопечные и в оценке успешности реализации второй задачи археологической практики. В отчетах они писали: «...мы приобрели важные профессиональные навыки», «...за время, проведенное на практике, мы получили ряд принципиально новых умений», «...мы прибрели огромное количество навыков», «...у меня появились новые впечатления и навыки», «...я приобрела ценный археологический опыт и навыки». Во многих отчетах эти навыки конкретизируются: студенты-практиканты подчеркивают, что получили «...навыки полевых археологических работ, таких, как: снятие горизонта, зачистка, работа с тахеометром», «...ознакомлены с камеральными методами работы», «...теперь я имею представление о том, как проходят археологические раскопки», «...данная практика явилась базой для развития навыков археологической работы», «...полноценное ознакомление с жизнью археологов», «...результатом нашего обучения на практике стало то, что мы стали настоящими археологами» и т. п. (рис. 2). Подавляющее большинство студентов-практикантов были впервые в полевых условиях археологических раскопок, но в кратчайшие сроки овладели многими практическими навыками.
Реализация третьей задачи – выработка профессиональных навыков, способствующих становлению практикантов как самостоятельных исследователей – в отчетах студентов-практикантов представлена не столь отчетливо, как первых двух. Результаты ее выполнения в большинстве документов либо никак не отражены, либо характеризуются самыми общими фразами: «...данное событие помогло выработать во мне навыки, способствующие становлению как самостоятельного исследователя» (это предварялось перечислением того, что они делали во время практики) (рис. 3). Только в редких случаях, скорее как исключение, встречаются отчеты, в которых студенты-практиканты рассуждают по поводу своей исследовательской деятельности, анализируя находки и вписывая их в исследовательское поле. Так, в одном отчете встречаем суждение: «Одна из последних находок в период практики свидетельствует о высокой вероятности того, что представители кротовской и одинов-ской культур проживали вместе. Ранее данный вопрос относился к спорным, теперь появились серьезные аргументы “за” ее вероятность».
Такая ситуация (слабое отражение в отчетах реализации третьей задачи) вызывает вопросы. Студенты полагают, что в данном случае нет места для самостоятельной исследовательской работы и задача избыточна (ее нельзя реализовать?), либо они не рефлексируют по этому поводу? Другое?
Имея в виду, что «практика должна стать не только местом апробации способностей, но и площадкой проблематизации будущей профессиональной деятельности» [Полупан, 2017. С. 160], последнее (проблематизация будущей профессиональной деятельности), судя по отчетам студентов-практикантов, требует пристального внимания и дальнейшей работы.
Становление практикантов как самостоятельных исследователей возможно лишь тогда, когда они сами осознанно смогут удерживать три позиции: «я могу», «я знаю – я умею», «я осмысливаю».
На уровне замысла «я могу»:
-
• я могу сформулировать проблему, которую буду исследовать;
-
• я могу объяснить, почему именно эту проблему буду исследовать;
-
• я могу конкретизировать проблему, которую буду исследовать.
На уровне реализации замысла «я знаю» и «я умею»:
-
• я знаю, какая литература мне поможет реализовать мой замысел;
-
• я умею работать с этой литературой;
-
• я знаю, какие источники мне помогут реализовать мой замысел;
-
• я умею работать с этими источниками;
-
• я знаю, как писать и оформлять текст исследования;
-
• я умею писать и оформлять текст исследования.
На уровне рефлексии:
-
• я могу сформулировать выводы своего исследования;
-
• я могу соотнести выводы с замыслом;
-
• я могу презентовать свое исследование.
Таким образом, исследование показывает, что в целом студенты-практиканты справ- ляются с поставленными перед ними задачами. Однако главная задача, на которую направлены и первые две (выработать профессиональные навыки, способствующие становлению практикантов как самостоятельных исследователей), не получила достаточного понимания, а значит, и исполнения. На первой практике эта задача носила в основном декларативный характер, а реально будет реализовываться на следующих этапах обучения. Хочется надеяться, что археологическая практика позволит знаниям первокурсников трансформироваться в удовольствие изучения, в умение ставить вопросы и находить ответы, в собственные открытия.
Список литературы Студенты о результатах археологической практики (по материалам полевых отчетов практикантов из Новосибирского и Томского государственных университетов)
- Полевые практики в системе высшего профессионального образования: Материалы III Междунар. конф. Новосибирск: НГУ, 2009. 232 с.
- Новикова О. И., Новиков А. В., Кениг А. В. Особенности археологической практики на объектах с мерзлотой // Полевые практики в системе высшего образования: Материалы V Всерос. конф., посвящ. 65-летию крымской учебной практики по геологическому картированию Ленинградского - Санкт-Петербургского государственного университета. СПб.: ООО Изд-во ВВМ, 2017. С. 73-75.
- Оганесян Е. В. Культурологическая модель педагогической практики в системе высшего педагогического образования: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2006. 46 с.
- Полупан К. Л. Учебная практика: матричная технология организации // Высшее образование в России. 2017. № 7-8. С. 159-164.
- Умеренкова О. В. Полевая практика студентов на базе археологической экспедиции в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС высшего образования // Полевые практики в системе высшего образования: Материалы V Всерос. конф., посвящ. 65-летию крымской учебной практики по геологическому картированию Ленинградского - Санкт-Петербургского государственного университета. СПб.: ООО Изд-во ВВМ, 2017. С. 121-123.