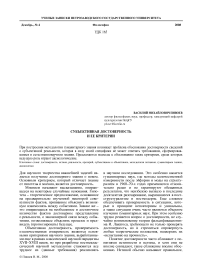Субъективная достоверность и ее критерии
Автор: Пивоев Василий Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (97), 2008 года.
Бесплатный доступ
При построении методологии гуманитарного знания возникает проблема обоснования достоверности сведений о субъективной реальности, которая в силу своей специфики не может отвечать требованиям, сформировавшимся в естественнонаучном знании. Предлагаются подходы к обоснованию таких критериев, среди которых ведущую роль играют аксиологические.
Достоверность, истина, реальность, критерий, субъективное и объективное, методология познания, гуманитарное знание, аксиологика
Короткий адрес: https://sciup.org/14749491
IDR: 14749491 | УДК: 165
Текст научной статьи Субъективная достоверность и ее критерии
Для научного творчества важнейшей задачей является получение достоверного знания о новом. Основным критерием, который отличает знание от гипотезы и мнения, является достоверность.
Мнением называют высказывание, опирающееся на некоторые случайные основания. Гипотеза – теоретическое предположение, основанное на предварительно изученной некоторой совокупности фактов, призванное объяснить возможную взаимосвязь между событиями. Знание же – это опирающееся на необходимое и достаточное количество фактов достоверное представление о реальности, о закономерной связи между событиями, позволяющее объяснять прошлое и предвидеть (прогнозировать) будущее.
Объективная достоверность, проверяемость и количественная измеримость являются основными критериями научного знания, выработанными еще в рамках классической научной парадигмы XVII–XVIII веков, но при разработке постнеклассической научной методологии становится все труднее их (данные требования) реализовать
в научном исследовании. Это особенно касается гуманитарных наук, где методы количественной измеримости после эйфории и моды на структурализм в 1960–70-х годах применяются относительно редко и не гарантируют обещанных результатов, что неизбежно вызвало в последние десятилетия разочарование, выразившееся в постструктурализме и постмодерне. Еще сложнее обеспечивать проверяемость в ситуациях, которые в принципе неповторимы и уникальны, а такие ситуации очень часто являются объектом изучения гуманитарных наук. При этом особенно трудно решается вопрос о достоверности, не случайно возникновение теории фальсификациониз-ма И. Лакатоса, требующего не только проверять достоверность, но и стремиться опровергнуть любые теоретические положения, подвергать их «испытанию на прочность».
Понятие достоверности часто сближают с понятиями истинности и истины, и хотя они не вполне совпадают, такое сближение вполне обосновано. Истиной обычно называют правильное, верное (проверяемое, удостоверенное) соответствие реальности нашим представлениям (и наоборот, наших представлений реальности), знаниям о ней. Иначе говоря, достоверность является важнейшей характеристикой истины, а истинность – это характеристика достоверного знания. Истина может быть:
-
• абсолютной;
-
• относительной;
-
• объективной;
-
• субъективной;
-
• вероятностной;
-
• аксиологической (правда-истина).
Абсолютной истиной называют идеал, недостижимый для человеческого познания, доступный лишь Господу Богу, удел человека – лишь относительные истины, условия которых обычно опускаются, но подразумеваются. Чаще всего ученые имеют дело с объективной истиной, получаемой в результате многократных проверок ее достоверности. Вероятностной истиной называют истину, достоверность которой может быть оценена в процентах или иных условных количественных показателях. Можно сравнить это с остроумным предложением И. Канта оценить прочность веры (уверенности) в чем-то предложением заключить пари по поводу тех или иных утверждений на некую сумму. В зависимости от того, каким количеством дукатов готов пожертвовать спорщик, можно оценить степень его веры (уверенности) в истинности его утверждения [20; 675]. В обыденной жизни мы часто имеем дело с вероятностными истинами, но ученые стараются не использовать их в своих построениях или использовать только истины, чья достоверность оценивается в 100 процентов. Однако в гуманитарных науках вероятностные истины вполне могут использоваться, например, в аксиологических исследованиях.
Больше всего сложностей возникает при изучении субъективной реальности. Может быть, эта проблема не вызывала бы интереса ученых, если бы не имела реального выхода в мир объективный, материальный. Достаточно вспомнить стигматы на теле Франциска Ассизского и его последователей, «Поэму о гашише» Ш. Бодлера, энтузиазм строителей Магнитки в 1930-е годы, подвиги советских солдат, бросавшихся под немецкие танки с криками «За Родину, за Сталина!», явления пси-энергии, контакты с инопланетным разумом, описанные В. Зоревым [17], и т. п. Эти феномены приводят нас к вопросу о существе духовной энергии как феномена субъективной реальности, которая через волю претворяется в факты объективной реальности.
В числе первых субъективное исследовали древнеиндийские мыслители. Их методология, представление об Атмане как единой духовной субстанции и «акаше» как информационном компоненте этой субстанции до сих пор имеют несомненное эвристическое значение. Парменид поставил вопрос о бытии (то есть о взаимосвязи субъективной и объективной реальности) и связал его с мышлением и сознанием. Среди европейских мыслителей первым осмыслил человеческую душу Платон, сделав четыре открытия:
-
1. Трехчастное строение души (чувственность, воля, интеллект);
-
2. Идея как сверхчувственный компонент души;
-
3. Социальная обусловленность мысли;
-
4. Сверхвременной характер «мира идей» [18; 2].
Кроме того, Платон сформулировал вопросы о сущности Единого и процессе творения. Эти идеи развили философы неоплатонизма, обращая внимание на причастность человеческой души сверхчувственному Единому. Человеческая душа, по утверждению Плотина, является воплощением того проекта, который сформирован в «божественном Уме». В последующие века в философии приоритетными стали интересы естествознания, и проблемы субъективного для материалистически ориентированных ученых перестали быть приоритетными, да и методология не давала для изучения этих объектов соответствующего инструментария. В классической немецкой философии созрел вопрос о возможности осмысления бытия самого по себе, вне связи с субъектом, то есть элиминирования субъекта из процесса осмысления бытия.
В конце ХХ века проблемы субъективной реальности приобрели огромную актуальность, начался своеобразный бум интереса к феноменам эзотеризма, трансперсонального опыта, виртуальности, который подогрели книги К. Кастанеды, знакомство с восточным религиозным опытом, компьютерные технологии. Но академическая наука старается сохранять дистанцию и держаться на расстоянии от этих проблем, поскольку этот материал не позволяет выдержать одно из важнейших условий науки – достоверность. Вот почему проблема субъективной достоверности приобретает значимость фундаментальной методологической основы для продолжения исследований этого материала. В разработке этой проблемы автор продолжает то направление, которое было заложено концепцией иррациональности [31], а также работами И. А. Бесковой [6] и Е. М. Иванова [18].
Материалисты создали своеобразную аксиоматическую парадигму, где основными координатами осмысления мира являются «материальное» и «идеальное». В свете этого подхода (впрочем, имеющего право на существование) любые формы реальности, даже субъективной, должны быть сведены к материальным проявлениям, что ведет к беспредельному расширению и обессмысливанию понятия «материального» [40]. Думается, что такая парадигма не вполне плодотворна и не соответствует современным представлениям о мире, гораздо плодотворнее в основание картины мира положить представление о двух видах субстанции – духовной и материальной, являющихся не взаимоисключающими, но взаимосвязанными и дополняющими друг друга.
При исследовании феноменов аксиоматики, лежащей в основании научных теорий, трансперсонального опыта, художественного творчества, сновидений, мифологии, виртуальной реальности, большое значение имеет проблема достоверности. В числе первых эту проблему начал исследовать И. Кант, который заметил, что характер достоверности в философии имеет совсем другую природу, нежели в математике [19; 263]. При этом он обращал внимание на логическую необходимость, наглядность, конкретность, которые не могут быть в достаточной мере достигнуты в философии, хотя стремление обнаружить такие основания Кант считал необходимым условием основания достоверности. Р. Декарт, пытаясь найти основания достоверности истины, указывал на принципы «сомнения», «мышления», «ясности», «отчетливости» и «очевидности», но фактически пришел к аксиоматике и конвенциональ-ности [16; 316, 607].
Д. Дьюи в 1929 году написал работу «Поиск достоверности», в которой критиковал философов, занятых поиском абсолютной истины. Л. Витгенштейн также посвятил этому свой трактат «О достоверности», отдав данному термину предпочтение перед «истиной» [10], причем главным объектом своих размышлений он избрал именно субъективную достоверность, стремясь, вопреки собственной установке, осмыслить то, «о чем невозможно говорить» (на языке математики). Он хотел понять, насколько точно язык выражает субъективную реальность сознания. В наши дни такие основания не без успеха пытается обнаружить японский ученый Эмото Масару, фотографируя кристаллы льда, образовавшиеся под влиянием различных субъективноэмоциональных факторов [24; 9]. И хотя он обнаружил главным образом энергетическую характеристику эмоций, запечатлеваемую водой, открываются плодотворные перспективы для дальнейших исследований субъективной реальности.
Одной из важнейших форм обнаружения субъективной реальности сознания является язык или, точнее, языки, которыми люди выражают свои мысли, чувства, настроения. Однако, как известно, язык не только открывает мысли человека, но и способен их скрывать, поэтому необходимы средства и способы проверки достоверности языкового сообщения. Этой цели могут помочь достигнуть паралингвистические компоненты общения: интонации речи, мимика, жестикуляция и телодвижения. Не все люди способны контролировать эти паралингвистические средства коммуникации, поэтому при наличии достаточного опыта можно легко обнаруживать несоответствие между содержанием вербального сообщения и паралингвистическим контекстом, что позволяет усомниться в его достоверности. Так, например, возможными признаками неискренности собеседника и лжи в процессе общения названы следующие:
-
• начинает издалека;
-
• избегает вашего взгляда;
-
• чаще, чем обычно, вертится, меняет позу;
-
• делает большие паузы в разговоре;
-
• реже улыбается;
-
• говорит медленнее, чем обычно;
-
• держится в разговоре повышенного тона;
-
• совершает речевые ошибки [8; 175].
Излишняя доверчивость в отношениях с малознакомыми людьми чревата негативными последствиями, поэтому разумнее перепроверять с помощью разных источников достоверность тех сведений, которые мы получаем от них. С другой стороны, чрезмерная подозрительность, критицизм и мнительность вызывают негативное отношение. Как заметил Л. П. Карсавин, критицизм есть признак незрелого ума, зрелый ум проявляется в конструктивных, новых идеях, «не критикою доказывается истинность того, чего нет в подвергаемом критике. Критицизм – признак ученичества и не руководимых целью исканий. И даже отдельные критические замечания полезны лишь в качестве иллюстраций доказываемой мысли. Что касается положительного доказательства, оно всегда – раскрытие системы» [22; 17].
Типичным вопросом для исследований сознания является такой: «Как я могу знать, что у другого человека болит голова?» [29; 53]. Косвенными признаками головной боли могут быть наличие повышенной температуры и отклонения от нормы артериального давления. Но эти признаки не являются достаточными, потому что голова может болеть по другим причинам, которые связаны с состоянием нервной системы, чувствами, переживаниями, настроением, усталостью, нарушениями эндокринной системы и т. д.
Э. Гуссерль так определяет «реальное»: это такая «область бытия, как наличное “пространственно-вещное”», идентифицирует его как то, что «не способно составлять область объектов имманентного переживания именно по причине своей “внешности”» [15; 91–92]. Н. Гартман связывал «реальное» не столько с пространственностью и статичностью (как то имело место в «старой онтологии»), но с временностью и процессуальностью [11; 322]. М. Хайдеггер предпочитал термин «онтическое». Чаще всего реальное противопоставляется «идеальному». Реальное – это то, что есть на самом деле, в отличие от идеального, воображаемого, существующего только в сознании субъекта. Но здесь возникает необходимость размежевания «идеального» и «субъективного», потому что реальность может быть не только объективной, но и субъективной. С первой дело обстоит относительно просто, сложнее – с субъективной реальностью.
Материалистически мыслящие естествоиспытатели закрывают глаза на онтологический статус субъективного, рассуждая, подобно Л. Витгенштейну: «…о чем невозможно говорить, о том следует молчать» [9; 3]. Так, для понимания источников трансперсонального опыта привлекают теорию эмпатии, концепцию глубинной памяти, хранящей информацию за пределами «оперативной памяти», теорию коллективного бессознательного К. Г. Юнга. Менее достоверными являются сведения о выходе сознания человека за пределы его тела в поисках информации (шаманские трансы, индийские йоги, опыты Тимоти Лири и Станислава Грофа). Но если ученый-гуманитарий хочет понять глубины человеческого сознания, то ему нужен инструментарий и методология осмысления этой субъективной реальности. Витгенштейн, вопреки своему пессимистическому выводу, попытался все-таки говорить об иррациональных феноменах человеческого сознания, найдя подход к нему через язык, отражающий и выражающий человеческую субъективность.
Пытаясь выяснить истоки сознания, Бергсон хотел понять, действительно ли оно рождается из внутренних движений мозгового вещества. Восприятие дает нам представление о пространстве, а действие – о времени. Но всякое восприятие насыщено воспоминаниями о прошлом опыте, которые способны искажать реальное восприятие [4; 433–434]. Поэтому субъективным критерием достоверности восприятия является соотнесение воспринимаемой информации с уже имеющимся опытом. Если я утверждаю, что у меня болит голова, это означает, что я сопоставил свое ощущение с подобными пережитыми мною состояниями, которые были квалифицированы в прошлом именно как головная боль.
Английский философ Иеремия Бентам ввел принцип «полезности» в качестве критерия для оценки как человеческих действий, так и получаемых знаний [3; 5]. Как справедливо отмечает И. А. Бескова, для снятия чувства тревожности, которое является сильным фактором, снижающим адаптивные способности человека, пригодны не только объективные, но и субъективные средства [5]. Именно такую роль играет в культуре человечества мифология, которая увеличивает потенциал уверенности человека в себе, духовную энергию и реальные силы человека, способность преодолевать возникающие в его жизни трудности.
Особенности феномена аксиологики мы уже исследовали на материале мифологического сознания [33]. При анализе поведения аборигенов этнографы достаточно давно обнаружили появление странных с точки зрения современной логики умозаключений, которые делали представители традиционных обществ из имевшихся налицо фактов. Так, если мальчик оказывался вблизи умершего в этот момент от какой-то болезни домашнего животного, его тотчас обвиняли в колдовстве и смерти этого животного. По мнению туземцев, естественной смерти не бывает, всегда есть конкретный виновник, который причиняет смерть. Вину нередко определяли на основе ассоциации по смежности.
Освоение и осмысление мира преследует цель – выявление объективных ценностных оснований и построение субъективно-объективной иерархии, организации и перестройки (если это возможно) мира для повышения его функциональности, то есть оптимальности функционирования, удовлетворения потребности [32; 43–51].
Д. М. Угринович писал: «Логика мифологических структур принципиально отличается от логики научного мышления, ибо мифологические структуры всегда дают иллюзорное, фантастическое отражение реальных связей и зависимостей, свойственных окружающему миру. Если это и логика, то особая “мифологика”, которая неадекватна объективной логике предмета... хотя миф и отражает некоторые противоположности, но он всегда пытается преодолеть эти противоположности в сознании с помощью фантастических образов» [38; 54]. Л. Леви-Брюль предложил именовать «пралогическим» мышление первобытного человека, полагая, что в древнем сознании существовала принципиально иная, отличная от современной, логика, «не замечающая» противоречий.
Обнаружить логику воображения значит понять, что обуславливает выбор из богатого эмоционального опыта, из памяти чего-то одного, необходимого для установления связи или отношения. Логика этого воображения соотносима с логикой сна, логикой бессознательного. Днем сознание человека контролирует свое состояние, ночью этот контроль уменьшается до минимума, чтобы дать отдых практическим функциям сознания.
В процессе воображения, фантазирования у взрослых участвует критический контроль сознания, у ребенка такого контроля нет, поэтому его фантазия более произвольна, неустойчива, наглядна [39; 81–93]. По аналогии с фантазией ребенка можно рассматривать характер воображения древнего человека, которое также не контролировалось критической рефлексией. Чем меньше человек понимает существо мира, окружающего его, чем менее глубоко он его освоил, тем произвольнее его фантазия, но и тем примитивнее домысливание. Однако надо учесть, что на фантазию человека большое влияние оказывают его потребности. Голодному человеку чаще всего снится вкусная и обильная еда.
Т. Рибо различал два вида воображения: воспроизводящее (память) и воссоздающее (творчество). Причем творчество он понимал как соединение, комбинацию элементов предшествующего опыта [35]. Близкую к этому точку зрения высказывал С. Л. Рубинштейн: «Воображение – это не отлет от прошлого опыта, это преобразование данного и порождение на этой основе новых образцов, являющихся и продуктами творческой деятельности человека, и прообразами для нее» [36; 345]. Более верную точку зрения высказывал русский критик В. Н. Майков: «Творчество есть пересоздание действи- тельности, совершаемое не изменением ее форм, а возведением их в мир человеческих интересов» [23; 38]. Опыт воображения тесно связан с освоением мира и осмыслением его в связи с потребностями человека.
Я. Э. Голосовкер называл логику воображения «имагинативной логикой» [13; 127]. Догадки о существовании «логики воображения» высказывал в начале ХХ века Н. А. Васильев [7]. И все же такой подход приводит к представлению о произвольности логики воображения, хотя полного произвола фактически не существует. Обусловленность логических связей в мифологическом сознании есть, и необходимо выяснить, что лежит в основании выбора того или другого варианта. Действительно, при недостатке опыта воображение может дорисовывать недостающие детали, но откуда они берутся? Существует гипотеза о том, что есть некий информационный «банк данных», содержащий сведения о том, что было и что будет. И тот, кто через свое «ночное сознание» осуществил контакт с этим «информационным полем», может предсказывать будущее или творить то, чего еще не было.
Чем больше опыт человека, тем больше его «спонтанное» воображение может предложить вариантов решения проблемы. Как происходит выбор одного из них? Ближе других подошел к решению этого вопроса профессор В. В. Налимов, предлагающий интерпретировать логику воображения (предсознания) как бейесову. Опираясь на формулу математика Бейеса, он акцентирует внимание на «фильтрах предпочтений», которые влияют на выбор. Однако откуда берутся эти «фильтры» и что они собой представляют, Налимов не объясняет. Недостатком предложенной Налимовым точки зрения является также то, что бейесова логика не различает добра и зла [25; 127–128, 251]. Для аксиологии этот недостаток имеет принципиальное значение, дающее основание отвергнуть данный подход.
И. Кант высказал чрезвычайно важное замечание: когда человек свободен от внешнего принуждения, он зависит от своих субъективных ценностных установок или от объективных моральных законов [21; 294]. Об этом же писал французский мыслитель XVIII века К. А. Гельвеций: «Страсти вводят нас в заблуждение, так как они сосредотачивают все наше внимание на одной стороне рассматриваемого предмета и не дают нам возможности исследовать его всесторонне... Страсти не только заставляют нас видеть лишь известные стороны предмета, но они еще и обманывают нас, часто показывая нам эти предметы там, где их нет... Иллюзия – непременное следствие страстей, глубина которых измеряется степенью ослепления, в которое они нас погружают» [12; 158]. По этому поводу Ницше замечал: «Наши страсти часто противоречат друг другу; в этом нет ничего удивительного. Наоборот, было бы странно, если бы они были в гармонии друг с другом. Внешний мир играет на стру- нах нашего инструмента; что же удивительного, если часто получается диссонанс!» [26; 236]. Или, как верно выразился французский мыслитель Блез Паскаль, «наш личный интерес – вот еще чудесное орудие, которым мы с удовольствием выкалываем себе глаза» [28; 93]. Нам представляется, что рассматривать логику воображения вне связи с интересами и потребностями человека нельзя. Как справедливо утверждают психологи, «изучение способностей представителей архаичной культуры к объединению единичных предметов в класс показало, что в далеком прошлом среди некоторых этнических общностей господствовали разновидности связей, построенных на значимых (праксеологических) признаках, отличных от связей по существенным признакам. Значимые связи в прошлом играли большую роль и составляли основу человеческой логики и мысленного упорядочивания объектов внешнего мира» [34; 271]. Эти логические связи возникли раньше становления понятийного мышления. В мифологическую эпоху сознание человека имело эмоционально-ценностный характер, поэтому весь мир человека был подчинен аксиологическим доминантам, первоначально – тотему, символу рода, затем «небу» и «земле», «матери» и «отцу» и другим ценностным символам. Именно поэтому «правополушарную логику» более верно именовать термином «аксиологика», или «логика ценностной обусловленности». Именно такую логику обнаруживал Фрейд в целом ряде явлений, таких как ошибочные действия, оговорки, сновидения, хотя термин «аксиологика» он, конечно, не употреблял.
Аксиологика, в отличие от однозначной непосредственной детерминации рационального типа, имеет неоднозначную обусловленность, опосредованный и часто иррациональный характер, опирается на интуитивные догадки, случайные ассоциативные связи и условные рефлексы, на примитивный эмоционально-практический опыт освоения мира. И все же логика воображения не вполне свободна и спонтанна, «за ее спиной» стоит ценностный интерес, пусть не вполне осознаваемый, но все же субъект ценностноориентационного отношения всегда испытывает образы фантазии на возможность удовлетворения с их помощью каких-то человеческих потребностей. Р. Барт верно заметил, что «мифология безусловно находится в согласии с миром, но не с таким, каков он есть, а с таким, каким он хочет стать» [2; 127].
Один из главных законов аксиологики – отождествление желаемого с действительным. Можно назвать также и другие: тождество части и целого, изображения и оригинала, имени и носителя, все «свое» позитивно, все «чужое» негативно. Исследователи мифологического сознания обычно не обращают внимания на биологические предпосылки возникновения сознания. Между тем имеются основания полагать, что в отличие от современного состояния психофи- зиологической структуры головного мозга, у которого доминантным является левое полушарие, а субдоминантным (подчиненным, зависимым) – правое, в головном мозге древнего человека доминантным было правое полушарие в силу неразвитости левого. Именно этим, на наш взгляд, определяются многие странности «пра-логического» мышления, о которых писали Леви-Брюль и другие этнографы. Логика правого полушария существенно отличается от рациональной (формальной) логики левого полушария. «Правополушарная» логика также целесообразна, но подчинена интуитивно полагаемым целям и смыслам. Главное отличие такой логики от обычной заключается в допустимости противоречий в обосновании выводов, в аксиологической обусловленности, в ориентации на высшие ценности.
После аксиологического контроля, проверки воображению «дается добро» на продолжение продуцирующей деятельности (разумеется, этот контроль не имеет однозначного характера). Если не знать об этом «контроле», то можно считать воображение свободным, спонтанным, приводящим к случайным находкам. Подобное мышление, которое можно еще назвать «авербальным», так как оно обычно не совпадает с вербальнопонятийным оформлением мысли, по нашему мнению, заключается в сопоставлении и соподчинении ценностных представлений, выявлении ценностного потенциала, сравнении со шкалой ценностей, соотнесении личностных и общественных (групповых) критериев ценности, ценно -стном выборе. Не сознание само по себе и не воля сама по себе определяют тот или иной поступок, писал П. В. Симонов, а способность усилить или ослабить ту или иную из конкурирующих в настоящее время потребностей. Это усиление реализуется через механизм эмоций, который зависит не только от величины потребности, но и от оценки вероятности, возможности ее удовлетворения [37; 46–57]. «Желание, – писал Ницше, - увеличивает то, чем хотят обладать; само оно растет от неисполнения, величайшие идеи - это те, которые создало наиболее бурное и наиболее продолжительное желание. Мы приписываем вещам тем больше ценности, чем больше растет наше стремление к ним...» [27; 143].
Среди психологических оснований ценностной картины мира важное значение имеет исследованный чешско-американским психологом С. Грофом «опыт рождения», который он подразделяет на четыре «базовые перинатальные матрицы» [14; 99–145]. Этот опыт представляется одним из существенных источников потребности в иллюзиях [30; 49–56]. Память о гармонии внутриутробного существования, спроецированная в будущее, оказывает серьезное искажающее влияние на восприятие картины мира, на формирующуюся систему ценностей, на аксиологику.
Следовательно, ценностная картина мира создает такую иерархию в представлениях об освоенном мире, которая позволяет не только правильно ориентироваться в нем, отделяя «зерна» от «плевел», но и сосредотачивать усилия в нужный момент на главном и гибко перестраивать тактику в соответствии с изменением жизненных обстоятельств.
Таким образом, во-первых, критериями субъективной достоверности, согласно Р. Декарту, могут быть конвенциональные аксиомы, принимаемые на веру научным сообществом в качестве опорных, базовых утверждений.
Во-вторых, введенный И. Бентамом принцип полезности (или общего блага) может быть относительным критерием достоверности.
В-третьих, рефлексивная самоотчетность и логически правильно выстроенное языковое высказывание, адекватно выражающее феномены сознания (Л. Витгенштейн).
В-четвертых, ценности индивида или группы, которые, как известно из опыта этого индивидуального (или группового) субъекта, способны удовлетворять его потребности, хотя эти средства связаны с потребностью не прямо, а опосредованно . Тем не менее эта связь может быть проверена относительно объективно, а значит, признана достоверной. При этом следует различать внутренние и внешние критерии субъективной достоверности. Первые являются достоверными лишь для индивидуального субъекта сознания (в случае группового субъекта они могут приобретать объективный статус), вторые могут приобретать статус достоверности также и для других субъектов .
В-пятых, исследования вибрационных волн энергии различных объектов, как показывает Э. Масару, создают предпосылки для исследования хадо -энергетики феноменов сознания, создавая базу для достоверного изучения и осмысления этих феноменов, а изучение торсионных полей (А. Е. Акимовым и Г. И . Шиповым) открывает перспективы понимания и осмысления единой основы субъективной и объективной реальности [1].
|
Критерии достоверности естественно-научного знания |
Критерии достоверности гуманитарного знания |
|
Детерминированность |
Синхронная обусловленность, взаимозависимость |
|
Проверяемость на практике |
Убедительность, очевидность |
|
Объективность |
Вероятностный релятивизм |
|
Общезначимость, универсальность |
Уникальность, оригинальность |
|
Дифференцированность |
Целостность |
|
Материальная предметность |
Идеальный характер |
|
Практическая полезность |
Ценностный смысл, опосредованная связь с потребностями |
Список литературы Субъективная достоверность и ее критерии
- Акимов А.Е., Шипов Г.И. Торсионные поля и их экспериментальные применения. М.: Междунар. ин-т теорет. и прикл. физики, 1995. 32 с.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: РОСПЭН, 1998. 415 с.
- Бергсон А. Материя и память//Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999. 1408 с.
- Бескова И.А. О природе трансперсонального опыта//Вопросы философии. 1994. № 2. С. 35-44.
- Бескова И.А. Эволюция и сознание (когнитивно-символический анализ). М.: ИФРАН, 2001. 272 с.
- Васильев В.Н. Воображаемая логика. М.: Наука, 1989. 264 с.
- Вилсон Г., Макклафлин К. Язык жестов. СПб.: Питер, 2001. 224 с.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат//Философские работы. М.: Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 1-73.
- Витгенштейн Л. О достоверности//Философские работы. М.: Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 320-405.
- Гартман Н. Старая и новая онтология//Историко-философский ежегодник-88. М.: Наука, 1988. С. 320-324.
- Гельвеций К.А. Об уме//Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1974. Т. 1. С. 143-632.
- Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987. 218 с.
- Гроф С. Области человеческого бессознательного: опыт исследования с помощью ЛСД. М.: Изд-во Трансперсонального института, 1994. 278 с.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1. Общее введение в чистую феноменологию. М.: ДИК, 1999.
- Декарт Р. Первоначала философии. Письмо к Х. Деруа//Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 297-422, 607-608.
- Зорев В.Н. За окраиной мира, бытия и сознания. Воронеж, 1995. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zorev.ru.
- Иванов Е.М. Онтология субъективного. Саратов: Наука, 2003. 200 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ivanem.chat.ru/home.htm.
- Кант И. Исследование степени ясности принципов естественной теологии и морали//Собр. соч.: В 6 т. М.: Мысль, 1964. Т. 2. С. 243-276.
- Кант И. Критика чистого разума//Собр. соч.: В 6 т. М.: Мысль, 1964. Т. 3. С. 69-756.
- Кант И. Основы метафизики нравственности//Соч.: В 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4 (I). С. 219-310.
- Карсавин Л.П. Философия истории. СПб.: АО КОМПЛЕКТ, 1993. 351 с.
- Майков В.Н. Сочинения. Киев: Фукс, 1901. Т. 1. 302 с.
- Масару Э. Послания воды: Тайные коды кристаллов льда. М.: ООО Издательский дом «София», 2005. 96 с.
- Налимов В.В. Спонтанность сознания. М.: Прометей, 1989. 288 с.
- Ницше Ф. Утренняя заря. Свердловск: Воля, 1991. 304 с.
- Ницше Ф. Воля к власти. М.: REFL-book, 1994. 352 с.
- Паскаль Б. Мысли. М.: REFL-book, 1994. 523 с.
- Патнем Х. Философия сознания. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. 234 с.
- Пивоев В.М. Миф в системе культуры. Петрозаводск: Пф ЛОЛГК, 1991. 216 с.
- Пивоев В.М. Рациональное и иррациональное в гуманитарном знании//М. М. Бахтин и проблемы методологии гуманитарного знания. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 7-28.
- Пивоев В.М. Философия культуры. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. Ч. 1. 163 с.
- Пивоев В.М. Аксиологика смысла//Человек в мире ценностей и смыслов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. С. 34-45.
- Психологический словарь/Под ред. В. В. Давыдова и др. М.: Педагогика, 1983. 447 с.
- Рибо Т. Логика чувств. СПб.: Тип. Поповой, 1906. 148 с.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. Т. 1. 488 с.
- Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 1981. 215 с.
- Угринович Д.М. Введение в религиоведение. М.: Мысль, 1985. 270 с.
- Ферстер Н.П.Творческая фантазия. М.: Русский книжник, 1924. 99 с.
- Яковлев А.И. Материальность сознания. М.: Социально-политическая мысль, 2008. 200 с.