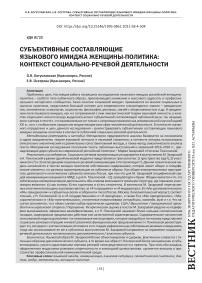Субъективные составляющие языкового имиджа женщины-политика: контекст социально-речевой деятельности
Автор: Богуславская Олеся Владимировна, Осетрова Елена Валерьевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 4 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Проблема и цель. Настоящая работа посвящена исследованию языкового имиджа российской женщины-политика - особого типа публичного образа, привлекающего внимание и массового адресата, и профессионального экспертного сообщества. Само понятие «языковой имидж» применяется во многих социальных и научных практиках, представляя большой интерес для современного гуманитарного знания - имиджеологии, лингвистики, психологии, социологии, философии, рекламы, связей с общественностью и др. В предметном поле языкового имиджа, как и в сопряженной с ним лингвистической теории языковой личности, в качестве отдельного аспекта всегда выделялся аспект субъективной составляющей публичной речи, так называемого «автора в тексте», что взаимосвязано не только с антропоцентризмом как универсальной научной идеей XX I в., но и с глобальным процессом медиатизации всех сфер человеческой деятельности. В контексте сказанного определена и цель данного исследования - реконструировать субъективную составляющую языкового имиджа женщины-политика в контексте публичной социально-речевой деятельности. Методология (материалы и методы). Методология предпринятого анализа базируется на положениях и идеях имиджелогии, теории языковой личности и языковой семантики, в контексте которых использованы описательно-аналитический и сравнительно-сопоставительный методы, а также метод семантического анализа текста. Материалом исследования послужили тексты публичных выступлений и заявлений 2016-2018 гг., принадлежащие двум субъектам современной российской политики - Марии Захаровой и Наталье Поклонской. Результаты исследования. Социально-речевая коммуникация укладывается в выступлениях М. Захаровой и Н. Поклонской в рамки одной языковой модели и представлена в трех аспектах: 1) пространство (где?); 2) участники (кто?) и 3) метасценарии социально-речевой коммуникации (что происходит?). Данная семантическая модель наполняется в текстах женщин-политиков собственным содержанием, которое имеет общие и специфические элементы, по-разному характеризующие их публичные образы. Как общее коммуникативное пространство деятельности политических субъектов описана Россия, при том что для М. Захаровой специфической средой коммуникации оказывается МИД, а для Н. Поклонской - ГД, прокуратура и Крым. Общим является и то, что собственную коммуникативную деятельность оба спикера вписывают в троичную структуру, где главными участниками являются: а) сам спикер; б) его соратники и в) его оппоненты. В контекстах М. Захаровой перечисленные участники воплощены в ролевых амплуа: а) «Я-посредника» и «Я-модератора»; б) «Мы-дипломатическом», «Мы-гражданском» и субъектных ролях «соборного» типа (Россия, Москва, дипломатический корпус); соответственно, у Н. Поклонской: а) в «Я-государственника» и «Я-прокурора», а также б) в «Мы-прокурорском», «Мы-соратническом» и «Мы-попечительском», уточненные номинативами сотрудники, команда, муж и т.п. Что касается оппонентов, то в обоих случаях набор практически одинаков: США / Вашингтон / американский президент или украинская сторона / Порошенко. Их критическая оценка в текстах М. Захаровой уведена на периферию высказывания, оформлена квалификативами, а у Н. Поклонской занимает более сильные синтаксические позиции, маркирована предикатами действия или качественной характеризации. Содержательное наполнение описываемой модели дополняют так называемые метасценарии, которые каждый раз по-новому представляют социально-речевую ситуацию и имеют различное функциональное предназначение: Н. Поклонская реконструирует эту ситуацию с учетом позиции оппонента и по следам рефлексии над собственным речевым поведением, тогда как использование ее же в публичных выступлениях М. Захаровой направлено на отражение социально-речевой деятельности коллегиального дипломатического / властного субъекта. Заключение. Языковой образ М. Захаровой более объективирован и сдержан, фактически сливается с типичным образом дипломатического субъекта, в то время как образ Н. Поклонской более эмоционален и субъективирован, усилен характерными чертами речевой непосредственности и прямоты. При этом оба имиджа, оформленные модусными рамками сопричастности и командной целеустановки, органично вписаны в пространство профессиональной коммуникативной среды.
Языковой имидж, коммуникация, языковая ситуация, семантический синтаксис, диктум, модус, метасмыслы, женщина-политик
Короткий адрес: https://sciup.org/144162150
IDR: 144162150 | УДК: 81’23 | DOI: 10.25146/1995-0861-2021-58-4-304
Текст научной статьи Субъективные составляющие языкового имиджа женщины-политика: контекст социально-речевой деятельности
DOI:
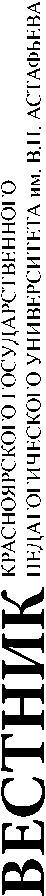
П остановка проблемы . Настоящая работа посвящена исследованию языкового имиджа российской женщины-политика – особого типа публичного образа, привлекающего внимание и массового адресата, и профессионального экспертного сообщества.
Само понятие «языковой имидж» применяется во многих социальных и научных практиках, представляя большой интерес для современного гуманитарного знания – имиджеологии, лингвистики, психологии, социологии, философии, рекламы, связей с общественностью и др.
В предметном поле языкового имиджа, как и в сопряженной с ним лингвистической теории языковой личности, методологическую базу которой заложил Ю.Н. Караулов [Караулов, 2010], в качестве отдельного аспекта всегда выделялся аспект субъективной составляющей публичной речи, так называемого «автора в тексте». Это обусловлено не только развитием антропоцентризма, или человекоцентричности, как универсальной научной идеи XXI в., но и глобальным процессом медиатизации всех сфер человеческой деятельности, определяющим элементом которого является именно речевая составляющая.
Политическая сфера общения, вне всяких сомнений, попавшая под влияние процессов медиатизации, расширяет содержание и традиционный состав коммуникативных ролей, активно вводя в собственное пространство новые типы участников, в том числе женщину-политика как самостоятельного и полноправного субъекта властной сферы.
В контексте сказанного определена и цель данного исследования – реконструировать субъективную составляющую языкового имиджа женщины-политика в контексте публичной социально-речевой деятельности.
Обзор научной литературы. Комплексный интерес к данной теме формируют прежде всего работы, находящиеся в русле лингвоперсоно- логии [Башкова, 2011], одним из наиболее признанных направлений которой, в свою очередь, является теория языковой личности, оформленная в работах Ю.Н. Караулова [Караулов, 2010] и делающая специальный акцент на анализе коммуникативных штрихов в портрете языковой личности (см., в частности, [Иссерс, 2000]). В этом внимании с теорией языковой личности вполне солидаризирована имиджелогия [Браун, 2001; Панасюк, 2009]. От обсуждения общей структуры и текстовой (содержательной) составляющей языкового имиджа1 [Осетрова, 2016] теория и практика создания публичного образа откровенно мигрирует в сторону исследования его речевого контекста [Богуславская, 2016; Санароуа, Багуслауская, 2020], во многом зависящего от исходного материала, способов и каналов коммуникации, а главное, целеполагания самого публичного субъекта, его спичрайтеров и имиджмейкеров2.
Перемещение в другое предметное поле – поле политической лингвистики3 – демонстрирует особую роль методической составляющей в соответствующих исследованиях; ср., например, рассуждения Г.Г. Почепцова [Почепцов, 1998] и его зарубежных коллег [Тичер и др., 2009].
Сосредоточенность исследователей на политическом дискурсе – обсуждении общих проблем политического языка и коммуникации4
[Добросклонская, 2012; Bralczyk, 2017], его семиотики [Шейгал, 2004], политической картины мира [Чудинов, 2001], контекстного расширения лексических значений, в том числе в политизированных тестах социальных сетей [Ivanova, Chanysheva, 2018; Kotsur, Vilczynska, Kotsur, 2020], – во многих работах соединяется с вниманием к речевой составляющей и коммуникативным эффектам политических высказываний. Так, В.Е. Чернявская описывает способы речевого воздействия во властном дискурсе5, П. Булл и М. Уоддл сконцентрированы на эмоционализации аудитории, которой политик может добиться за счет групповой похвалы либо уничижения [Bull, Waddle, 2021], С. Муди и Р.З. Эслами - на тактике переключения языкового кода (например, при переходе с английского на испанский), помогающей сделать акцент на перспективном будущем, солидаризируясь с избирателями, заручиться их групповой поддержкой [Moody, Eslami, 2020], а Б. Кок и Б. Гонсалес исследуют инструментарий диалогового эффекта через использование отсылок в блоге политического содержания [Cock, González, 2018].
Особенено интересны в границах обсуждаемой темы статьи Л. Балахонской, Н. Журавлевой и их коллег, которые анализируют одну из коммуникативных стратегий, помогающих оформить политический имидж П. Грудинина, кандидата от КПРФ на президентских выборах 2018 г. Стратегия так называемой «внутренней мифологизации» оформляет в данном случае четыре политических мифа: «врага», «героя-спасителя», «социального идеала» и «идентичности сообщества». Вербальная и визуальная репрезентация этих мифов исследована в том числе на предмет эмоционально-оценочных коннотаций, которые влияют на построение политического имиджа [Balakhonskaya et al., 2018; 2019].
Как видно, интерес ученых в большинстве случаев сосредоточен на изучении публичной речи и публичного имиджа политиков мужчин. Однако в данном исследовании выбор научного объекта отходит от традиционного: в центр внимания помещен женский коммуникативный тип, еще точнее - субъективная составляющая имиджа женщины-политика.
Методологию данного исследования составляют положения семантического синтаксиса, объясняющие содержательное устройство отдельного предложения и целого текста [Арутюнова, 1976; Падучева, 2004; Rice, Newman, 2018].
В основу работы положена идея Ш. Балли о двухкомпонентном содержании всякого высказывания (текста) – объективной составляющей (диктум) в его соотношении с субъективной составляющей (модус). По Т.В. Шмелевой, дик-тумная часть, ответственная за передачу объективной информации и обусловленная действительностью, выражается в высказывании эк-плицитно, а модусная часть, исходящая от самого автора, - имплицитно6. Однако последнее справедливо только по отношению к тем типам высказываний и текстов, в которых автор, отдавая их пространство под описание некоего «объективного положения дел», почти не обнаруживает своего присутствия, а значит, не проявляет собственного, «авторского» отношения к происходящему.
В связи с этим кажется важным выяснить степень субъективного присутствия автора в политических текстах, которые, как известно, являются популярным объектом изучения с точки зрения объективного содержания языкового образа: концептов, ключевых слов, лозунгов, моделей прошлого, настоящего и будущего [Осетрова, 2016].
Принимая во внимание типологию модус -ных смыслов, предложенную Т.В. Шмелевой7, в данном случае авторы используют ее в функции своеобразной «модусной сетки», последовательно накладывая на текстовый материал и анализируя наличие / отсутствие в нем субъективного компонента.
Кроме описанных выше принципов семантического анализа, при проведении исследования использованы описательно-аналитический метод, метод компонентного анализа, сравнительно-сопоставительный метод8, а также кейс-метод в его лингвистической интерпретации [Леонтович, 2011].
Материалом исследования послужили тексты публичных выступлений и заявлений 2016–2018 гг., принадлежащие двум субъектам современной российской политики - Марии Захаровой, директору Департамента информации и печати, официальному представителю Министерства иностранных дел (далее - МИД), и Наталье Поклонской, депутату Государственной Думы VII созыва, а в настоящее время дипломату - российскому послу в Кабо-Верде. В отношении обоих субъектов важна синхронизация следующих характеристик: наличие у каждого из спикеров статуса самостоятельного и активного участника политического публичного процесса, принадлежность к одной из ветвей власти – законодательной либо исполнительной, принадлежность к одному «политическому поколению» и высокая степень коммуникативной самостоятельности.
Результаты исследования . Анализ субъективных смыслов публичных текстов М. Захаровой и Н. Поклонской показал, что каждая из них мыслит себя находящейся и действующей в пространстве определенной социальноречевой (и шире - коммуникативной) ситуации: 1) реконструировать которую помогает «модусная сетка» метасмыслов и социальных смыслов; 2) которая воспроизводится в виде определенной модели и 3) описывается с учетом трех составляющих:
-
- пространство социально-речевой коммуникации;
-
- участники социально-речевой коммуникации;
-
– метасценарии коммуникации.
С учетом сказанного последовательно представим результаты исследования этих составляющих в текстах М. Захаровой и Н. Поклонской.
Пространство социально-речевой коммуникации в текстах М. Захаровой. М. Захарова рассматривает собственную речевую деятельность через призму дипломатической коммуникации, помещенной в несколько пространственных рамок, главная из которых – МИД ; он осмысливается спикером как локатив, среда пребывания, действия и социальной активности, оформленная предложно-падежной формой в + N 6 : Начать действовать в МИД (Брифинг МИД РФ (далее – Брифинг), апрель, 2017); В МИД состоится церемония передачи... (Брифинг, май, 2016).
Та же семантика сирконстанта приписана и другим пространственным объектам: Посольство России; Москва; Россия / Российская Федерация / Российское государство / страна и т.п.; например: В Москве обеспокоены сообщениями о новых жертвах (Брифинг, март, 2018).
Регулярно такие локативы как будто повышают свой семантический ранг, соответствующие же лексемы, реагируя своими значениями на метонимическое переосмысление ситуации, начинают обозначать не обстоятельства места, а активных субъектов политического действия, оформленных в двухкомпонентную структурную схему N 1 Vfin; ср. примеры: МИД России и Посольство России оказывают всю необходимую поддержку ( Брифинг, декабрь, 2018).
Участники социально-речевой коммуникации в текстах М. Захаровой. В этих текстах все перечисленные выше элементы, в том числе МИД , формируют определенное коммуникативное пространство, в которое М. Захарова помещает себя – автора – как активного деятеля (падежные формы личного местоимение Я ): У меня есть моя позиция – имеется в виду позиция моей страны – которая мне делегирована на небольшом направлении для озвучивания. И я это делаю (Digital Russia, 2017).
Одновременно рефлексируя по поводу отведенной ей в данном пространстве речевой и социальной функции, спикер представляет себя в рамках следующей модели: ‘позиция моей страны’ = ‘моя позиция’ → ‘я представляю нашу позицию’.
Таким образом, описывая контекст дипломатической социально-речевой коммуникации, М. Захарова фиксируется как один из ее участников в роли «посредника».
Местоимение Я привычно репрезентирует здесь и роль «модератора», если дополнено метапредикатами - с общей семантикой ‘выделение информации, на которую следует обратить внимание’: Вот я пример приведу (РИА Новости, июнь, 2018).
В ряде случаев Я -модератора может быть элиминировано и представлено имплицитно, видимо, в соответствии с этикетным целеполаганием. Однако подразумевается оно однозначно, все так же используясь в функции актуализации важной информации; ср.: Хотела бы напомнить, что происходящие на Украине события… (АИФ, февраль, 2017); Обратила бы внимание на то… (Брифинг, май, 2018).
Авторское- Я как репрезентант участника социально-речевой коммуникации регулярно трансформируется в авторское- Мы , одновременно изменяя собственные ролевые характеристики и заставляя говорить о ролях союзнического типа 9 .
Это личное местоимение может презентовать автора как часть единого национального коллектива, передавая эмоцию сопричастности; тогда следует говорить о « Мы -гражданском»: В нынешнем году мы отмечаем 100-летие со дня рождения… (АИФ, март, 2017).
Отмечено, впрочем, его элиминирование из контекстов, передающих типичные совместные инициативные действия коллег по дипломатическому корпусу: За подобными речами усматриваем… (Брифинг, февраль, 2018); ср. последний пример с рядом глаголов в форме 1 лица, множественного числа, настоящего актуального: следим, наблюдаем, отмечаем, рассматриваем, обращаем внимание, уде- ляем внимание; предпринимаем и т.п. В таком случае имплицитное Мы, уточненное семантикой предикатов «акцентированного восприятия» или «направленного действия», преобразуется в «Мы-коллегиальное», а именно в «Мы-дипломатическое».
Мы -дипломатическое и Мы -гражданское подчиняются общему толкованию: ‘Я + те, кого здесь и сейчас, в момент речи, я осмысливаю как родственное мне сообщество, содружество (сотрудников, содеятелей, соратников, сочувствующих) на основании общей деятельности, состояний, атрибутов, оценок и т.п.’.
Когда автор стремится уменьшить субъективный компонент высказывания (модус) и, напротив, усилить объективный (диктум), тогда позицию личного местоимения замещают номинативные формы и словосочетания, прямо фиксирующие субъектов дипломатической коммуникации как третьих лиц; например: Наши дипломаты уже находятся в контакте с австрийскими коллегами (Брифинг, ноябрь, 2018); В Нью-Йорке находится представительная российская делегация во главе с Министром природных ресурсов М.Е. Донским <…> наши коллеги проводят презентации по ключевым положениям заявки (Брифинг, ноябрь, 2018). Но даже в этом случае М. Захарова пользуется притяжательным местоимением наш /наши - маркером сопричастности.
Другим способом репрезентации значимых для спикера субъектов социально-речевой коммуникации становятся имена собственные и нарицательные, в которых на первый план выходит агентивное значение: Москва, Россия, Российская Федерация, а также МИД, российский дипломатический корпус, российская внешняя политика ; например: Российская внешняя политика прилагает все усилия в интересах скорейшего согласования вопросов (Брифинг, апрель, 2016); МИД России оперативно отреагировал (Брифинг, сентябрь, 2018). Этот тип субъектов в границах модели можно интерпретировать как субъекты «соборного» типа: в подобных контекстах у лексем актуализируется значение „общность / собрание / съезд значимых, авторитетных субъектов”.
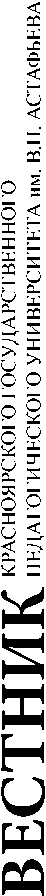
В пространство социально-речевой коммуникации включена еще одна ролевая позиция – оппонента , содержание которой не совсем стабильно, поскольку реагирует на политическую повестку дня, и которая, как все уже перечисленные ролевые типы, влияет на формирование имиджа М. Захаровой.
Дипломатический комментирующий диалог, как правило, исключает прямые обращения к оппоненту, поэтому его позиция элиминирована из структуры высказывания, описывающего актуальную речевую ситуацию, а личные местоимения 2 лица, предназначенные в языке для обозначения адресата, отсутствуют.
Оппонент тем не менее представлен как один из участников социально-речевой коммуникации на диктумном уровне высказывания. Он обозначается именем собственным, если речь идет о персоне, или именем нарицательным (словосочетанием), если речь идет о коллективном субъекте; например: журналисты медиаконцерна Р. Мердока, Вашингтон, США, украинская сторона и т.п. Свое отношение к оппоненту, противостояние ему как сопернику спикер стандартно выражает, используя свернутые пропозиции качественной характеризации: Именно Вашингтон, США, взяли на себя священное обязательство [с ироничной интонацией. - прим. авт. ] провести эту работу (Брифинг, февраль, 2017); Журналисты медиаконцерна Р. Мердока проводят очередную антироссийскую кампанию (Брифинг, март, 2016); Еще раз напоминаю, что украинской стороной было организовано фальшивое мероприятие (Брифинг, март, 2018).
Заметим, что отрицательная оценка, оформленная квалификативами и распространенная на второстепенные актанты объектного типа, оказывается при этом на периферии высказывания.
Впрочем, коммуникативный статус оценки может и повышаться, если совместно с объектом она входит в сегментированную конструкцию, позволяющую выделять тему высказывания; например: Что касается вопроса о неспособности США отделить террористов от оппозиции… (Брифинг, декабрь, 2018).
Метасценарии коммуникации в текстах М. Захаровой. Анализ показал, что события социально-речевой коммуникации спикер регулярно представляет в виде ряда последовательных действий, маркируя каждое из них предикатом с семантикой восприятия, социальной, интеллектуальной или речевой активности; см. пример: Как ожидается, в центре внимания будет обстановка, складывающаяся на палестино-израильском треке, в том числе <…>. Планируется подробно рассмотреть проблематику скорейшего восстановления палестинского национального единства <…>. Состоится также обмен мнениями о путях улучшения социально-экономического <…>. Помимо этого будут рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ход реализации договоренностей (Брифинг, декабрь, 2018). Эффект от таких последовательностей оттачивается с помощью грамматики, когда начинающие ряд предикаты, как в приведенном выше фрагменте, использованы в форме настоящего времени ( планируется, ожидается ), а завершающие – в форме будущего ( состоится, будут рассмотрены ). Можно трактовать подобные последовательности как инструмент экспертного прогнозирования, в успешности которого спикер не сомневается.
Если событие, которое представляет спикер, не входит в сферу ответственности российской стороны, рассматриваемые ряды репрезентируются предикатами «акцентированного восприятия» или социально-речевого действия: следим, наблюдаем, отмечаем, рассматриваем, обращаем внимание, уделяем внимание; требуем и т.п., – что позволяет актуализировать смыслы косвенного контроля и особого внимания к происходящему; см. пример: Внимательно следим за развитием этой ситуации. Отмечаем абсолютно недопустимое отношение к российской гражданке со стороны американских властей. То, что американские власти позволяют себе делать в отношении М.В. Бутиной, думаю, вряд ли вынес бы человек, даже со специальной подготовкой. Вновь требуем от Вашингтона соблюдения ее законных прав и скорейшего освобождения из тюрьмы (Брифинг, декабрь, 2018). Поскольку в данном случае последовательно представлены действия соперничающей стороны, здесь также используется возможность для выражения характеристик через введение оценочных квалификативов; ср.: внимательно следим, требуем и недопустимое отношение.
Все сказанное приводит к выводу, что моделирование коммуникативной ситуации происходит в текстах М. Захаровой не только по линии ролевого состава ее участников, но и по линии событийной – в границах языковых метасценариев.
Пространство социально-речевой коммуникации в текстах Н. Поклонской. Второй спикер – Н. Поклонская – позиционирует себя как субъекта, действующего и коммуницирующего в глобальном пространстве (нашей) страны, России, Крыма и в двух других более специфицированных властных пространствах Государственной Думы (ГД) и прокуратуры .
В проанализированных текстах эти территориальные и социальные объекты могут обозначаться как локативы ( в Крым, в прокуратуре ) либо оформляются в актантных позициях посессора, бенефициента ( профильная комиссия ГД, на благо России ), а иногда - квалифика-тива ( государственный служащий, крымское управление ).
Участники социально-речевой коммуникации в текстах Н. Поклонской. Как автор высказываний спикер публикует две самохарактеристики:
– «Я -государственника»; например: Я государственный служащий, и все, что я делаю, должно идти на благо России и на благо православного русского народа (Новая газета, июль, 2016);
– «Я -прокурора»; например: Очень нужный документ, потому что я как прокурор и как председатель профильной комиссии ГД столкнулась с такой проблемой (АиФ, ноябрь, 2018).
Показательно, что данный спикер прямо обозначает свои социально-речевые статусы, используя пропозиции анкетной характеризации.
Что касается содержательного наполнения ролевых позиций, то здесь очевидна высокая степень деятельностного начала, репрезентированного через предикаты социального действия; например: Я присягала народу, обещала его защищать (Новая газета, июль, 2016); Я и ходатайства писала через адвокатов <…> Я подозревала, что эти вопросы возникнут, поэтому на всякий случай заказала справку из Крымского управления ГИБДД за подписью начальника (РИА Новости, декабрь 2017).
Активная позиция проявляет себя и при оформлении оценки: если у М. Захаровой она привычно заведена в квалификативы, а поэтому оказывается на периферии высказывания, то у Н. Поклонской оценочный компонент регулярно оформляется в модусной части и, усиленный затем диктумной оценкой, порождает впечатление непосредственности и прямоты; см. пример: Моя оценка не изменилась: на Украине случился государственный переворот (РИА Новости, декабрь, 2017) .
Как и в текстах М. Захаровой, Я -авторское Н. Поклонской имеет склонность регулярно трансформироваться в Мы , заставляя говорить о наличии в модели социально-речевой коммуникации участников союзнического типа .
Самым явным в этом списке оказывается « Мы -коллегиальное», уточняемое как « Мы -прокурорское» и одновременно « Мы -соратническое»; к примеру: И нами в прокуратуре было принято решение о возбуждении уголовного дела в его отношении. На счету его банды 17 трупов. Я очень давно занимаюсь участниками ОПГ «Башмаки», с 2007 года. И вот у нас, наконец, получилось разобраться с ними (АиФ, ноябрь, 2018). Мы -коллегиальное и Я -авторское находятся здесь в отношениях взаимной контекстной поддержки, буквально трансформируясь одно в другое по мере развертывания высказывания ( нами → я → нас ).
Это содержание находит еще более прямое выражение, когда, помимо личных местоимений, отливается в специфических лексических формах – поддерживать, общаться, встречаться, команда, вместе, друг друга - маркерах сопричастности; ср. с предыдущим примером: К сожалению, после моего ухода многие
сотрудники, которые стояли у истоков создания, оставили свои должности по различным причинам. Кто-то по собственному желанию, а кто-то нет. У каждого из них большое будущее. Мы пройдем все испытания вместе, потому что по-прежнему одна команда. Мы команда народной прокуратуры. Когда я приезжаю в Крым, мы встречаемся, общаемся, поддерживаем и будем поддерживать друг друга, нравится это кому-то или нет (РИА Новости, декабрь, 2017).
Мы -прокурорское в ряде контекстов сменяет Мы -союзническое, значение которого формируется на фоне описания совместных действий: В прошлом году в Ливадийском дворце мы уже установили два портрета государя Николая Александровича и государыни Александры Федоровны. Надеюсь, вы имели честь их видеть (Новая газета, июль, 2016).
Наконец, контекстную семантику этого личного местоимения можно уточнить и как « Мы -попечительское»: Мы с супругом вкладываем и свои средства. Если кому-то требуется хрусталик глаза, – а он стоит все-таки не миллионы, а 20–30 тысяч рублей – мы можем его приобрести (АиФ, ноябрь, 2018).
Определено, что союзники в публичных текстах Н. Поклонской эксплицируются гораздо чаще, чем в текстах предыдущего спикера: супруг, сотрудники, команда народной прокуратуры, народ и т.д. Они входят в пространство сопричастности Н. Поклонской, будучи маркированными не только личными, но и притяжательным местоимением наш / наши : Наши предприниматели терпят убытки, реализовывать свою продукцию им становится невыгодно, они оказываются в неравных конкурентных условиях по сравнению с другими бизнесменами (РИА Новости, ноябрь, 2018).
В ряде случаев квалификация субъекта как союзника очевидно следует из положительной семантики окружающих его элементов пропозиции, как в следующем фрагменте: Главе Крыма нужно пожелать хороших помощников, и тогда точно все у него получится (РИА Новости, декабрь, 2017), - где смыслы желательно- сти (пожелать), оптимистичного прогноза (получится), помощи (помощники) и, наконец, положительной оценки (хорошие) ведут к совокупному восприятию главы Крыма как союзника спикера.
Позиция оппонента в пространстве высказывания Н. Поклонской выражена прямо, однако не включена в позицию адресата: об оппоненте спикер говорит в 3 лице, предпочитая выводить его из пространства актуальной речевой коммуникации.
О данной ролевой позиции, применяемой в отношении того или иного языкового участника, обозначенного именем собственным или нарицательным, свидетельствуют пропозиции «критичного» действия, которое может быть направлено на российское государство, саму Н. Поклонскую, более того, на субъектов-партнеров; ср.: США вообще в последнее время усиливают давление не только на нашу страну, а, мягко говоря, выводят из зоны комфорта даже своих давних партнеров и друзей (РИА Новости, ноябрь, 2018); Президент Порошенко внес меня в свой санкционный список, мне закрыт въезд на Украину как гражданке Российской Федерации (АиФ, ноябрь, 2018).
Эту же характеризующую функцию попутно выполняют пропозиции состояния, проявляя отношение автора к субъекту; например: У американского президента по горло своих внутренних проблем, ехать в Крым – значит признать его российским. Наверное, он к этому еще не созрел (РИА Новости, ноябрь, 2018).
Наконец, самую прямую, откровенную оценку мы наблюдаем, когда оппонент нелицеприятно квалифицирован в рамках пропозиции характеризации: Порошенко – деспот и тиран, поработивший со своей варварской дружиной нашу братскую Украину (РИА Новости, апрель, 2017).
Весь перечисленный набор языковых инструментов отрицательной оценочности демонстрирует, повторимся, стремление спикера к прямоте и откровенности, которая достигается в том числе за счет клишированных выражений (усиливать давление, выводить из зоны ком- форта, закрыть въезд), не лишенных образной эмоциональности (по горло внутренних проблем, деспот и тиран, варварская дружина).
Метасценарии коммуникации в текстах Н. Поклонской. Важным для спикера оказывается и инструмент метасценария, когда в текст вводится целый ряд предикатов, обозначающих социальную, речевую и/или интеллектуальную активность для последовательного описания коммуникации. В данном случае они используются для маркировки ключевых содержательных моментов, как в следующем тексте. Суть информационного посыла (диктум) описана здесь всего пятью финальными лексемами, вся же предыдущая часть объемного высказывания структурирована как раз с помощью метапредикатов, организующих его модусную часть: [– Наталья Владимировна, какой вы видите свою дальнейшую политическую карьеру? На чем сосредоточите свое внимание в ближайшее время?] - Для всех сомневающихся в моей политической ориентированности и переживающих за мое депутатское будущее и политическую судьбу, не пытаясь интерпретировать интерпретаторов, тщательно подбирая выражения, отмечу следующее. Несмотря ни на что, очень важным для себя считаю реализацию проекта помощи детям Донбасса (РИА Новости, ноябрь, 2018).
Очевидно, что социально-речевая ситуация реконструируется Н. Поклонской, во-первых, с учетом позиции оппонента ( сомневающиеся, переживающие, интерпретаторы ), а во-вторых, по следам рефлексии над собственным речевым целеполаганием и речевым поведением ( не пытаясь интерпретировать → тщательно подбирать выражения → отметить следующее → считать важным ).
В итоге метасценарий Н. Поклонской оказывается личностно ориентированным, тогда как использование его в публичных выступлениях М. Захаровой значительно более объективировано и, по сути, направлено на структурирование социально-речевой деятельности коллегиального (дипломатического, властного) субъекта.
Заключение . Реконструкция языкового политического имиджа М. Захаровой и Н. Поклонской в рамках ситуации социально-речевой коммуникации, проведенная на материале публичных выступлений 2016-2018 гг., дала следующие результаты.
Социально-речевая коммуникация укладывается в выступлениях М. Захаровой и Н. Поклонской в рамки одной языковой модели и представлена в трех аспектах: 1) пространство (где?); 2) участники (кто?) и 3) метасценарии социально-речевой коммуникации (что происходит?). Эта семантическая модель наполняется в текстах женщин-политиков собственным содержанием, которое имеет общие и специфические элементы, по-разному характеризующие их публичные образы.
Как общее коммуникативное пространство деятельности политических субъектов описана Россия, при том что для М. Захаровой специфической средой коммуникации оказывается МИД , а для Н. Поклонской – ГД, прокуратура и Крым.
Общим является и то, что собственную коммуникативную деятельность оба спикера вписывают в троичную структуру, где главными участниками являются: а) сам спикер; б) его соратники и в) его оппоненты. Ролевые амплуа каждого из названных участников вновь расходятся содержательно: в отношении языкового образа М. Захаровой следует отметить, что она сама как коммуникатор выступает в семантических ролях посредника и модератора (« Я -посредника» и « Я- модератора»), а Н. Поклонская - в ролях государственника и/или прокурора (« Я -государст-венное» и « Я -прокурорское»). Круг соратников М. Захаровой восстанавливается через « Мы -дипломатическое» и « Мы -гражданское», а также номинативы, описывающие коммуникативных субъектов «соборного» типа – МИД, Москва, Россия . Союзнические роли для Н. Поклонской репрезентированы в « Мы- прокурорском», « Мы- соратническом» и « Мы- попечительском», которые, во-первых, работая в одном контексте, поддерживают « Я -прокурорское» и, во-вторых, часто предметно уточняются путем контекстного использования именных форм сотрудники,
команда, муж и т.п. Что касается основных оппонентов, то в обоих случаях набор практически одинаков: это США / Вашингтон / американский президент либо украинская сторона / Порошенко . Разница в том, что критическая оценка в текстах М. Захаровой уведена на периферию высказывания, оформлена, как правило, квали-фикативами, а у Н. Поклонской занимает более сильные синтаксические позиции, маркирована предикатами действия или качественной характеризации в основе предложения.
Содержательное наполнение описываемой модели дополняют так называемые метасценарии - последовательности предикатов с семантикой восприятия, социальной, интеллектуальной или речевой активности, которые каждый раз по-новому представляют социально-речевую ситуацию и которые могут иметь различное функциональное предназначение: Н. Поклонской эта си туация реконструируется с учетом позиции оппонента и по следам рефлексии над собственным речевым целеполаганием и речевым поведением - тогда как использование ее в публичных выступлениях М. Захаровой значительно более объ-ективированно и, по сути, направлено на отражение социально-речевой деятельности коллегиального дипломатического / властного субъекта.
В целом можно говорить, что языковой образ М. Захаровой более объективирован и сдержан, фактически сливается с типичным образом дипломатического субъекта, в то время как образ Н. Поклонской более эмоционален и субъективирован, усилен характерными чертами речевой непосредственности и прямоты. При этом оба имиджа, оформленные модусными рамками сопричастности и командной целеустановки, органично вписываются в пространство профессиональной коммуникативной среды.
Список литературы Субъективные составляющие языкового имиджа женщины-политика: контекст социально-речевой деятельности
- Брифинги официального представителя МИД РФ. URL: https://www.mid.ru/brifingi
- Новая газета. URL: https://novayagazeta.ru/news
- РИА Новости. URL: https://ria.ru
- Аргументы и факты (АиФ). URL: https://aif.ru
- Digital Russia. URL: https://d-russia.ru/tag/mid
- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М.: Наука, 1976. 383 с. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/arutynova/index.htm
- Башкова И.В. Изучение языковой личности в современной российской лингвистике / Сибир. федерал. ун-т. Красноярск, 2011. 472 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01005023377
- Богуславская О.В. Речевой имидж политика-лидера (на русско-польском языковом материале) // Слово. Предложение. Текст: Анализ языковой культуры: матер. XII Междунар. науч.- практ. конф. (11 ноября 2016, Краснодар). Краснодар, 2016. URL: http://www.apriori-nauka.ru/electronic-arc/Clovo-Predlozhenie-Tekst-analiz-jazykovoj-kultury/id/304
- Браун Л. Имидж. Путь к успеху. СПб.: Питер-пресс, 2001. 192 с. URL: https://altairbook.com/books/949626-imidj---put-k-uspehu.html
- Добросклонская Т.Г. Язык политического медиадискурса Великобритании и США // Язык СМИ и политика / Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. 952 с. URL: https://istina.msu.ru/collections/582793/
- Иссерс О.С. Коммуникативный портрет языковой личности (на примере писем Сергея Довлатова) // Русистика сегодня. 2000. № 1–4. С. 63–75. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26993
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с. URL: https://www.phantastike.com/ru/yazykovaya_lichnost/zip/
- Леонтович О.А. Методы коммуникативных исследований М.: Гнозис, 2011. 224 с. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2012-04-023-leontovich-o-a-metody-kommunikativnyh-issledovaniy-mgnozis-2011-221-s
- Осетрова Е.В. Языковой имидж: текстовая составляющая // Экспликация базовых ценностей этноса в речи и тексте: матер. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Красноярск, 17 ноября 2016 г. / отв. ред. А.Д. Васильев; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2016. С. 152–160. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28776119
- Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской культуры, 2004. 608 с. URL: http://lexicograph.ruslang.ru/TextPdf1/PaduDinamMod2004.pdf
- Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. М.: Омега-Л, 2009. 265 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01004237656
- Почепцов Г.Г. Методы анализа текстов политических лидеров // Теория коммуникации. М.: Центр, 1998. С. 208–240. URL: http://socium.ge/downloads/komunikaciisteoria/pochepcovteoriakomunikacii.pdf
- Санароуа А., Багуслауская А. Политическая эластичность в формировании медиаобразов глав государств стран бывшего СССР в международном медиапространстве // Журналістыка–2020: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 22-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12–13 лістап. 2020 г. / Беларус. дзярж. унт; рэдкал.: В.М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2020. 689 с. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/252333/1/429-432.pdf
- Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса; пер. с англ. Харьков: Гуманитарный центр, 2009. 356 с. URL: https://socioline.ru/files/5/41/metody_analiza_teksta_i_diskursa.pdf
- Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивные исследования политической метафоры: монография / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2001. 238 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/132622929.pdf
- Шейгал Е. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 2004. 326 с. URL: https://www.academia.edu/9556373/Шейгал_Политический_дискурс
- Balakhonskaya L., Zhuravleva N., Beresneva I. Communication strategy of political leader’s image mythologization in digital space during the course of election campaign: Comparative aspect // Communication Strategies in Digital Society Workshop (ComSDS), 10–11 April 2019 / Institute of Electrical and Electronics Engineers. St. Petersburg, 2019. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8709654/authors#authors DOI: 10.1109/COMSDS.2019.8709654
- Balakhonskaya L.V., Zhuravleva N.N., Gladchenko I.A., Beresneva I.V. Political mythologization in a digital environment as a communicative strategy of candidate image formation during election period // Communication Strategies in Digital Society Workshop (ComSDS), 10–11 April 2018 / Institute of Electrical and Electronics Engineers. St. Petersburg, 2018. P. 7–11. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8354953 DOI: 10.1109/COMSDS.2018.8354953
- Bralczyk J. O języku propagandy i polityki. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2007. 352 s. URL: https://openlibrary.org/books/OL18566740M/O_języku_propagandy_i_polityki
- Bull P., Waddle M. Emotionality in audience responses to political speeches // Russian Journal of Linguistics. 2021. Vol. 25, No. 3. P. 611–627. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46616066 DOI: 10.22363/2687‐0088‐2021‐25‐3‐611‐627
- Cock de B., González Arias C. Reference to self and other in the digital public sphere: The case of political blogs // Journal of Psycholinguistic Research. 2018. Vol. 47, No. 2. P. 343–354. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10936-017-9537-4?error=cookies_not_supported&code=f27cd6a7-c0b5-44fc-b81c-c74baa95d4ad DOI: 10.1007/s10936-017-9537-4
- Ivanova S., Chanysheva Z. A word in the context of a cultural and historical universe: Some case studies from the US political discourse // Russian Journal of Linguistics. 2018. Vol. 22, No. 4. P. 821–843. URL: http://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/20166 DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-4-821-843
- Kotsur V., Vilczynska I., Kotsur L. Actualization of socio-political vocabulary in everyday discourse of the subjects of communication // Psycholinguistics. 2020. No. 28 (2). P. 82–98. USB: https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/1073 DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-2-82-98
- Moody S., Eslami R.Z. Political discourse, code‐switching, and ideology // Russian Journal of Linguistics. 2020. Vol. 24, No. 2. P. 325–343. URL: http://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/24096 DOI: 10.22363/2687‐0088‐2020‐24‐2‐325‐343
- Osetrova E.V., Revenko I.V. Two “characters” in the Russian linguistic worldview: “We” and “they” // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. P. 1–16. URL: http://journal.sfukras.ru/number/30773
- Rice S., Newman J. A Corpus investigation of English cognition verbs and their effect on the incipient epistemization of physical activity verbs // Russian Journal of Linguistics. 2018. Vol. 22, No. 3. P. 560–580. URL: https://research.monash.edu/en/publications/a-corpus-investigation-of-englishcognition-verbs-and-their-effec DOI: 10.22363/2312-9182-2018-22-3-560-580