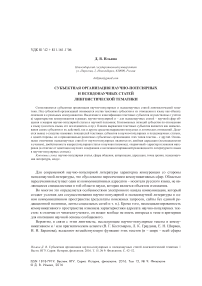Субъектная организация научно-популярных и псевдонаучных статей лингвистической тематики
Автор: Ильина Дарья Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Сопоставляется субъектная организация научно-популярных и псевдонаучных статей лингвистической тематики. Под субъектной организацией понимается состав текстовых субъектов в их отношении к языку как объекту описания и к реальным коммуникантам. Выделение и классификация текстовых субъектов осуществлены с учетом а) характеристик коммуникантов в рамках научно-популярной и - для псевдонаучных статей - научной сфер общения и жанров научно-популярной статьи и научной полемики; б) возможных позиций субъектов по отношению к языку (носитель языка, его исследователь и пр.). Планом выражения текстовых субъектов являются как наименования самих субъектов и их действий, так и другие средства выражения модусных и логических отношений. Делается вывод о сходстве языковых показателей текстовых субъектов в научно-популярных и псевдонаучных статьях, с одной стороны, но о принципиально различных субъектных организациях этих типов текстов - с другой. Основными отличиями псевдонаучных статей от научно-популярных являются их двойная адресация (неспециалистам и ученым), двойственность жанра (популярная статья и научная полемика), «первичный» характер изложения материала (в отличие от адаптации научного содержания к неспециализированной разновидности литературного языка в научно-популярных статьях).
Научно-популярная статья, сфера общения, авторизация, адресация, точка зрения, псевдонаучная литература, модус
Короткий адрес: https://sciup.org/147219678
IDR: 147219678 | УДК: 81’42
Текст научной статьи Субъектная организация научно-популярных и псевдонаучных статей лингвистической тематики
Для современной научно-популярной литературы характерна конкуренция со стороны псевдонаучной литературы, что обусловлено пересечением коммуникативных сфер. Областью пересечения выступает один из коммуникативных адресатов – носители русского языка, не являющиеся специалистами в той области науки, которая является объектом изложения.
Во многом это определяется особенностями электронного канала коммуникации, который создает условия для сосуществования научно-популярной и псевдонаучной литературы в одном коммуникативном пространстве (результаты поисковых запросов, сайты без единой редакционной политики, ленты социальных сетей и т. п.). Кроме того, неспециализированность коммуникативного пространства изменила характеристики адресата научно-популярных текстов: в отличие от читателя-ученого, он может вообще не иметь интереса к теме и критериев для опознания научной основы сообщаемого.
Вероятно, в связи с этим лингвисты, исследующие научно-популярные тексты в коммуникативном и / или прагматическом аспекте (В. Г. Костомаров, Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев, И. И. Баранова), выделяют воздействующую функцию этих текстов (и – шире – всей сферы
Ильина Д. В . Субъектная организация научно-популярных и псевдонаучных статей лингвистической тематики // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 9: Филология. С. 42–52.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 9: Филология
общения) наряду с информирующей. Реализация воздействующей функции призвана, с одной стороны, привлечь и удержать внимание читателя, а с другой – убедить его в истинности сказанного по поводу предмета текста. Кроме того, при реализации информирующей функции текста автору приходится учитывать и возможную некомпетентность читателя. Авторы псевдонаучной литературы ставят перед собой такие же задачи в отношении читателя-неспециалиста: сообщить знание о предмете и убедить читателя в том, что это знание истинно – в отличие от версии «официальной науки».
Такая конфигурация задач автора научно-популярного и псевдонаучного текста обусловливает недостаточность традиционного субъект-объектного способа описания объекта, когда последний представляется закрытым, отчужденным от ситуации коммуникации и независимым от коммуникантов. Другой широко употребляемый в настоящее время способ – субъект-субъ-ектный – включает объект в ситуацию коммуникации, что позволяет демонстрировать его свойства на примере действий коммуникантов – напрямую или опосредованно, через занимаемые коммуникантами позиции по отношению к объекту (например, в отрывке Так почему мы научились пить алкоголь только 8 миллионов лет назад ? Примерно в это же время мы спустились с деревьев и начали ходить по земле 1 местоимение мы означает ‘человечество в филогенезе’, включая коммуникантов). Этот способ обеспечивает более надежное выполнение и информирующей, и воздействующей функций текста: с одной стороны, читатель, строя отношение между собой и объектом, лучше понимает содержание, а с другой – будучи вовлеченным в «сюжет» текста, испытывает больший интерес к нему.
В этом отношении наиболее сложны для описания тексты лингвистической тематики, поскольку сам процесс научно-популярной коммуникации, происходящий при написании и чтении текста, тоже является объектом лингвистики. В таких текстах субъект-субъектный способ представления объекта может реализовываться в двух формах: через отношение к языку (носитель языка, его исследователь, человек, изучающий иностранный язык, и пр.) и через отношение к самой ситуации коммуникации (автор и читатель данного текста). Ср.: * Мы [носители языка] часто употребляем это слово в значении ‘…’ и * В предыдущем предложении слово … использовано в значении ‘…’, и вы [носитель языка и читатель текста] наверняка это поняли, несмотря на то что в словаре этого значения нет .
Далее в статье будут сопоставлены средства субъект-субъектного изложения содержания в научно-популярных и псевдонаучных текстах. Значимыми характеристиками выявляемых в тексте субъектов в рамках анализа, отталкивающегося от сферы общения, являются те, которые соответствуют параметрам участников научно-популярной коммуникации. Автор текста (1) владеет знанием, претендующим на истинность (по норме – научно обоснованным), и (2) стремится понятно, интересно и убедительно изложить его читателю. Адресат (1) либо не имеет представления об объекте этого знания, либо имеет неполное / искаженное представление о нем (2). По параметру коммуникативной цели читатель фактически нейтрален: в ситуации, когда текст может встретиться ему случайно, сложно прогнозировать его интерес к теме.
Вторая группа параметров связана с тематикой рассматриваемых текстов: по отношению к объекту знания – языку – читатель является его носителем (если это родной язык), человеком, изучающим его (если язык неродной) или просто имеющим представление об описываемом языке либо языке в целом. Автор может занимать позицию носителя языка и его исследователя. Субъект-объектный способ изложения предполагает учет только первой группы параметров, субъект-субъектный – обе группы.
Фрагменты текста, репрезентирующие те или иные типы отношений коммуникантов к языку, назовем микросюжетами, границами которых является изменение соотношения субъектных ролей участников коммуникации. Смены микросюжетов определяются тем, в каком качестве выступают участники общения: только как автор и читатель (субъект-объектный способ изложения) или еще и как «персонажи», вовлеченные в повествование (комбинация субъ-ект-объектного и субъект-субъектного способов).
Говоря о псевдонаучных текстах, необходимо иметь в виду, что они адресованы не только неспециалистам, но и ученым, в связи с чем тексты приобретают характер научной полемики.
Цель статьи – продемонстрировать различия в субъектной организации научно-популярных и псевдонаучных статей лингвистической тематики.
Механизмами, обеспечивающими возможность соотнесения читателем себя и автора с текстовыми субъектами, являются авторизация и адресация, понимаемые как «указание на источник информации, субъекта точки зрения» [Золотова, 1973. С. 263]. Приведенное определение было дано Г. А. Золотовой для понятия авторизации. Языковыми средствами авторизации и адресации являются показатели точки зрения (субъекта дейксиса, восприятия, речи и сознания в терминологии Е. В. Падучевой [2010. С. 262–265]). К ним относятся дейктики, единицы языка со значением модальности, оценки, обобщения, указания на подобие и пр.
В рамках сферы общения мы распространяем понятие точки зрения не только на авторизацию, но и на адресацию, соглашаясь с тезисом Н. Д. Арутюновой о том, что любой речевой акт содержит параметризованную модель адресата, коррелирующую по социальным параметрам с моделью автора (например, учитель и ученик) [Арутюнова, 1981. С. 357–358].
При возможном сходстве языковых показателей субъектов в описаниях языка двух типов (субъект-объектного и субъект-субъектного) их можно различить, используя модели сфер общения и ситуаций, в которых проявляются отношения коммуникантов как социальных субъектов и объекта, описываемого в тексте. Описание научно-популярной сферы общения позволяет выявлять фрагменты текста, репрезентирующие «чистую» прагматическую ситуацию с субъ-ект-объектным описанием языка. В качестве примера можно привести следующий фрагмент статьи Ю. Кондратенко «Язык предпочитает одни слоги другим не только из-за удобства произношения» 2: Речь состоит из слов, а слова представляют собой сочетания звуков, причем одни из этих сочетаний встречаются чаще, а другие — реже . «Наложение» ситуации взаимодействия коммуникантов с языком на прагматическую ситуацию можно продемонстрировать на фрагменте предложения из статьи А. Ефимова «История истории: Поклоно ѿ Онѳима» 3: … так и мы в SMS или чатах то и дело проявляем особенности своей устной речи . Местоимения мы и своей отсылают к обоим коммуникантам уже как к носителям языка; глагольная форма 1 л. мн. ч. – к их действию с языком (с особенностями устной речи ). В этой же статье встречается яркий пример субъект-субъектного объяснения, когда и коммуникативный, и социальный статус читателя актуальны в равной мере: Надпись – та самая загадка, которую мы [автор и лингвист] вам [читателю и носителю языка] предложили в самом начале (подчеркивание наше. – Д. И. ). Глагол предложили отсылает к действию, совершенному автором ранее, дейк-тик в самом начале – к месту в тексте, где это было сделано.
В нашей статье исследуемые тексты были подвергнуты анализу, выявляющему соотношение способов повествования о языке с конкретизацией субъект-субъектного способа до «микросюжетов», в пределах которых коммуниканты вступают в различные отношения с языком.
В качестве материала были взяты две научно-популярные и две псевдонаучные онлайн-ста-тьи этимологической тематики: «Генеалогия языков» А. Пиперски 4, «Сорок, девяносто, сто…» О. Маевской 5, «Аз, Буки, веди… часть 1» М. Задорнова 6 и «Анты писали по-русски» В. А. Чу- динова 7. Этимологическая тематика была выбрана, поскольку является одной из наиболее популярных областей любительской лингвистики (причины этого подробно излагает А. Зализняк в лекции «О любительской лингвистике» [2009]). Все тексты написаны в пределах последних пятнадцати лет.
Первый этап анализа состоит в выделении в исследуемых статьях различных микросюжетов на основании характеристик сферы общения. Примеры таких отрывков в научно-популярных и псевдонаучных статьях можно увидеть в таблице. Маркеры текстовых субъектов подчеркнуты.
Показатели текстовых субъектов прагматической ситуации в научно-популярных и псевдонаучных статьях
|
Тип текстового субъекта |
Научно-популярные статьи |
Псевдонаучные статьи |
|
Эксплицитное упоминание автора |
мы откро ем вам всю правду (А. Пиперски) |
Об антах мы кое-что зна ем ; В связи с обнаружением мною захоронений вождей… (В. Чудинов); Я думаю , что не случайно… (М. Задорнов) |
|
Указание на автора как субъекта речи |
Точно так же можно было бы развернуть и многие другие ветви [– но, увы, лист слишком мал]; мы откроем вам всю правду (А. Пиперски) |
можно прочитать такие слова ( я их показываю на полях с увеличением ) (В. Чудинов); Если выражаться не совсем неполиткорректно, алфавит – упрощенная азбука ; прежде чем открыть тайну этой буквы, должен предупредить , что… (М. Задорнов) |
|
Указание на автора как субъекта восприятия |
Закон стал выглядеть сложнее – но все равно остался законом (А. Пиперски); По звучанию оно очень похоже на числительное сорок ; если понимать буквально, то… (О. Маевская) |
В связи с обнаружением мною захоронений вождей… (В. Чудинов); …этот символ дома так и вырезался… пирамидкой… Точь-в-точь наша заглавная буква « Д » (М. Задорнов) |
|
Указание на автора как субъекта сознания |
[ Точно так же можно было бы развернуть и многие другие ветви – ] но, увы , лист слишком мал; …6000 лет – глубина тоже вполне солидная (А. Пи-перски); Вот почему говорить о сороках, девяностами, стам совершенно недопустимо! (О. Маевская) |
К сожалению , из этого… очерка мы не знаем ничего ни о языке антов, ни о том, обладали ли анты письменностью… ; полагаю , что на этот вопрос можно ответить утвердительно (В. Чудинов); Я думаю , что не случайно во всех европейских языках (М. Задорнов) |
Продолжение таблицы
|
Указание на автора как субъекта дейксиса |
[ мы торжественно клянемся, что ] теперь-то уже сообщи л и вам всю правду (А. Пиперски); Продолж им ряд числительных… семьдесят, восемьдесят, девяносто, – вот еще одно исключение из этого ряда (О. Маевская) |
Одна из антских урн была опознана мной… на изображениях в современной литературе об этрусках (В. Чудинов); Многие слова, которые мы сегодня считаем сквернословием… ; …по-слание нам , современникам , от наших предков (М. Задорнов) |
|
Эксплицитное обращение к читателю |
В качестве примера посмотр им на несколько слов… ; мы откроем вам всю правду (А. Пиперски); Вдума йте сь… ; Вспомн им сороконожку, у которой… (О. Маевская) |
Замет им , что все входящие в надпись слова не только понятны без перевода… (В. Чудинов); Однако верн ем ся к нашим родным мудростям ; Хочу заострить ваше внимание… ; … если буковую дощечку… полить водой ( можете это попробовать сделать сами ) (М. Задорнов) |
|
Указание на читателя как субъекта речи |
Почему же мы так уверенно о нем говорим ? (А. Пиперски); А откуда, собственно , слово «сорок» появилось в русском языке ? (О. Маевская) |
[ Буква «Б» – беременная женщина. ] Забавно! ; Любой из вас может легко этот список продолжить ; Конечно, мне можно возразить , мол , где доказательства тому, что у славян были… письмена с буквицей ? [ Ведь официальная наука утверждает, что… ] (М. Задорнов) |
|
Указание на читателя как субъекта восприятия |
Как именно делился праславян-ский язык, можно увидеть на рис. 3 … (А. Пиперски); если понимать буквально, то… (О. Маевская) |
Повернув ее направо на 90º, можно прочитать такие слова ( я их показываю на полях с увеличением ) … ; … этрускологи … ( а им , несомненно попадались чисто русские неявные надписи… ) (В. Чудинов); Даже в их названии мы видим , что они и есть главные ; Любой из вас может присмотреться к остальным буквам (М. Задорнов) |
|
Указание на читателя как субъекта сознания |
вспомним наш пример с судьбой древненемецкого ū ; если вы хотите понять, как были открыты… ; На первый взгляд кажется , что идея о… опровергнута… [ Но если присмотреться… ] (А. Пиперски); Выражение «сорок сороков» вы наверняка много раз слышали (О. Маевская) |
…если бы этрускологи… хотя бы раз обратили внимание на подобный факт… ; Теперь становится понятным , как выглядела рака ли храмина, сопровождавшая саркофаг (В. Чудинов); …азбука и алфавит. Большинство думают , что это одно и то же (М. Задорнов) |
|
Окончание таблицы |
|
|
Указание на читателя – Если васуже не пугают фоне- дейктическая проекция * тические законы в более сложной формулировке… (А. Пи-перски); Однако для нас намного важнее не происхождение обоих числительных, а то, что сорок и девяносто склоняются иначе, чем… ; Продолж им ряд числительных… семьдесят, восемьдесят, девяносто, – вот еще одно исключение из этого ряда (О. Маевская) |
…о нем мы читали на других этрусских предметах (В. Чудинов); Однако вернемся к нашим родным мудростям ; Многие слова, которые мы сегодня считаем сквернословием… ; …по-слание нам , современникам , от наших предков (М. Задорнов) |
* Примечание: По Лайонзу, ориентация дейктика на слушателя как на точку его отсчета [Падучева, 2010. С. 260–261].
Из таблицы видно, что языковые средства авторизации и адресации одинаковы в обоих типах текстов: личные местоимения и глагольные формы 1 и 2 лица, модусные предикаты, несобственно-прямая речь, дейктики, отсылающие к фрагментам текста и / или имеющие временную отнесенность.
Однако прагматические ситуации, к субъектам которых отсылают эти средства, различны: если в научно-популярных текстах мы видим соответствие сфере общения (автор – ученый, читатель – неспециалист), то в псевдонаучных текстах состав коммуникантов иной: если автор, не являясь ученым, все же представляет результаты своего «исследования», то адресатами статей выступают два разных субъекта. Первый сходен с адресатом в научно-популярной сфере общения по социальным признакам, вторым же является лингвист, которому оппонирует автор. Наличие второго адресата в прагматических ситуациях исследуемых статей эксплицитно подтверждается небольшим количеством примеров: Конечно, мне можно возразить, мол , где доказательства тому, что у славян были… письмена с буквицей ? (М. Задорнов) (поскольку далее в качестве аргумента возможного оппонента автора приводится отсылка к научной, а не бытовой точке зрения: Ведь официальная наука утверждает, что… ); Полагаю, что если бы этрускологи за двести лет изучения этрусских надписей хотя бы раз обратили внимание на подобный факт… (В. Чудинов).
Однако полемичность пронизывает псевдонаучные тексты целиком, выражаясь большей частью «значимым отсутствием». В этом плане интересно выявить возможное различное прочтение одних и тех же фрагментов текста разными адресатами. Объектами различного прочтения являются модусные компоненты, поскольку диктум – это объект скорее различного отношения адресатов, чем объект различной смысловой интерпретации: событийная сторона – в большей степени с точки зрения истинности / ложности ( Все надписи на раке сделаны на русском языке и буквами протокириллицы… (В. Чудинов)), а логическая – с точки зрения убедительности ( Я думаю, что не случайно во всех европейских языках « любовь » начинается со звука « л » (М. Задорнов)).
Среди модусных фрагментов встретились как полемические (содержащие две точки зрения), так и «монологические», односубъектные (содержащие одну – авторскую – точку зрения). Примеры фрагментов первого типа были упомянуты ранее; к ним относятся и фрагменты типа [Есть два слова: азбука и алфавит.] Большинство думают, что это одно и то же. Далеко не так (М. Задорнов), в которых однозначную референцию имеет только точка зрения автора. Вторая точка зрения может быть воспринята как принадлежащая: а) неспециалистам в области языковедения и б) лингвистике и обществу как продукту образования (интерпретация учено- го). Аналогично может быть интерпретирован фрагмент Сегодня уже никто не знает, даже не предполагает, что [в основу заглавных букв азбуки были положены два символа… мужчина и женщина] (М. Задорнов) и пр. В статье В. Чудинова мы не обнаружили таких примеров, что связано, вероятно, с большей наукообразностью изложения материала в ней.
Среди односубъектных модусных единиц есть единицы (1) с однозначной референцией: Я дума ю , что не случайно во всех европейских языка « любовь » начинается со звука « л » (М. Задорнов); На данном изделии я выявил шесть явных русских слов и 18 неявных… ; Таким образом, автор текста [ Г. И. Соколов ] убежден в том, что… (В. Чудинов) и (2) с неоднозначной: [ То ли дело сохранившиеся, дошедшие до нас основные заглавные знаки. ] Даже в их названии мы видим, что они и есть главные (М. Задорнов); Эту надпись, однако, нельзя считать явной, поскольку она существует в виде рельефа верха головы. Но вот надпись в виде черного треугольника… вполне можно отнести к явной ; [ Все надписи на раке сделаны на русском языке и буквами протокириллицы… ] Это заставляет предполагать, что какого-либо другого языка у антов не было… (В. Чудинов). В высказывании М. Задорнова читатель-неспециалист может включить себя в состав референта местоимения мы , если автор вызывает у него доверие и если он не знает этимологии слова заглавный . Лингвист же не отнесет себя к людям, обозначаемым этим местоимением. Интерпретации точек зрения, представленные в статье В. Чудинова, могут быть иными, поскольку наукообразность этого текста предполагает большую вероятность употребления авторского «мы». Тем не менее читатель-неспециалист может присоединиться к автору, если аргументация последнего покажется ему убедительной (или если он доверяет автору), а ученый – нет.
По этой же причине – из-за наукообразности текста – в статье В. Чудинова официальная наука в соответствии с научными жанрами представлена в двух качествах: как носитель известного знания, не вызывающего сомнений, но недостаточного, и как оппонент автора, исследователь, совершающий неправильные действия (ср.: В энциклопедии « Славянский мир » В. Д. Гладкого об антах можно прочитать следующее... <цитата> К сожалению, из этого... очерка мы не знаем ничего ни о языке антов, ни о том... – Полагаю, что если бы этрускологи... хотя бы раз обратили внимание на подобный факт ( а им, несомненно, попадались чисто русские явные надписи... ) ... предположения... у представителей классического направления были бы иными, созвучными нашим ).
Помимо указаний на коммуникантов, в текстах имеются и другие показатели научно-популярной и псевдонаучной прагматических ситуаций.
Информирующая функция в научно-популярных текстах реализуется для оптимизации представления знания и для адаптации отдельных фрагментов научной модели мира:
-
• использование схем и таблиц, наличие лексических маркеров связи с ними: легко можно изобразить графически ; можно увидеть на рисунке ; мы даже не смогли изобразить их всех на этом дереве : слишком уж раскидистым бы оно получилось (А. Пиперски);
-
• называние действий автора с помощью глаголов и девербативов, в значение которых входит компонент ‘сообщение’, ‘демонстрация’: приведем [басню]; можно изобразить графически ; ответ на этот вопрос изображен на рис. 4 ; откроем вам всю правду ; не стоит даже пытаться изложить … в одной краткой статье (А. Пиперски); Вспомним сороконожку ( в качестве примера ); Или пример из литературы… ; Продолжим ряд числительных … (О. Маевская)
-
• упрощение / неупоминание деталей, известных лингвистам, но несущественных для изложения: какого-то другого языка (А. Пиперски); Под влиянием других славянских слов тюркское кырык превратилось в привычное сорок (О. Маевская);
-
• предъявление информации как фактов – без указания на источник информации либо с указанием на научный источник знания: …Язык, который дал происхождение русскому, украинскому и белорусскому, тоже в свою очередь возник в результате расщепления какого-то другого языка ; Ученые пока не могут установить, каким именно способом они произносились… ; ссылки на научные работы (А. Пиперски); Самая распространенная версия… Другая версия… Есть также мнение, что… ; Одни языковеды полагают, что… (О. Маевская);
-
• разворачивание материала «от простого к сложному» (в разделе 2 «Восстанавливаем древний язык» статьи А. Пиперского последовательно формулируется фонетический закон – от общих случаев до частных факторов);
-
• метафоры: «семьи» языков (в нетерминологическом употреблении: при разворачивании метафоры она перестает быть «стертой») – семьи живых существ, дерево языков – дерево, реконструкция звука по современным языкам и проверка памятниками письменности – решение задачи в учебнике по математике и проверка в конце учебника, изучение объекта – строительство здания (А. Пиперски);
-
• апелляция к частичному знанию читателя с целью его расширения: Эта схема впервые была изложена Якобом Гриммом в 1822 году ( да-да, он не только собирал сказки, но и был одним из крупнейших лингвистов своего времени !); Если вас уже не пугают фонетические законы в более сложной формулировке ( … ) , мы откроем вам всю правду (А. Пиперски); Выражение « сорок сороков » вы наверняка много раз слышали. Что же оно означает ? (О. Маевская).
В прагматической ситуации статьи О. Маевской выявляется еще одна функция автора, связанная с популяризацией нормативной речи: Однако для нас намного важнее… то, что сорок и девяносто склоняются иначе, чем другие числительные, означающие круглые десятки . В приведенном отрывке референтом местоимения мы ( нас ) являются и автор, и адресат – как носители русского языка. В последнем предложении Вот почему говорить о сороках, де-вяностами, стам совершенно недопустимо ! оценочный предикат недопустимо , усиленный обстоятельством совершенно, принадлежит уже только автору – как лингвисту, стремящемуся, чтобы носители языка говорили соблюдая норму.
У авторов псевдонаучных текстов нет задачи адаптировать узкоспециальное содержание для неспециалиста: в отличие от научно-популярной литературы, вторичной, производной от научной, псевдонаучная литература первична. В исследуемых псевдонаучных статьях наблюдается применение средств, аналогичных средствам адаптации научного содержания, однако менее широко:
-
• использование иллюстраций (В. Чудинов);
-
• приведение примеров и аналогий, знакомых читателю: …соединялись на верхнем уровне… как на этом простом рисунке ; Вот еще один замечательный тому пример ; Бук хорошо режется, как теперь бы сказали – технологичный материал (М. Задорнов);
-
• использование метафор и сравнений: Под ней аккуратно вырезались буквы. Они подвешивались к этой черте как белье на просушке к веревке ; Человек твердо, раскинув руки в стороны, стоит на земле – это буква « Т »; Если их соприкоснуть и соединить накрепко черточкой-замочком, то получится « Ж » (М. Задорнов).
Средства воздействия в прагматических ситуациях рассматриваемых статей применяются неодинаково, однако обнаружить строгой закономерности между сферой общения и спектром применяемых средств не удалось. Так, в статье О. Маевской используется следующий прием: сначала автор обозначает непонятное для читателя выражение ( Выражение « сорок сороков » вы наверняка много раз слышали. Что же оно означает ?), затем выдвигается самая правдоподобная версия ( Если понимать буквально, то в Москве начала XX века стояло « сорок сороков » ( 40 × 40 ) , то есть 1600 храмов ) и опровергается ( На самом деле их было меньше… ). Псевдонаучная же статья В. Чудинова почти не содержит экспрессивных средств и по стилю близка к научной. В статье М. Задорнова, напротив, широко употребляется оценочная лексика и конструкции ( Вообще интересно слово « буква »; Это, может быть, и неплохой образ, но все-таки слишком простоватый, приземленный… ; Как мы читаем алфавит ? .. Незатейливо !; сами по себе они скучные, в них нет тайны ; Если выражаться не совсем неполиткоррет-но, алфавит – упрощенная азбука ; Однако вернемся к нашим родным мудростям ; восклицательные предложения), разговорные речевые средства и нарушение норм литературного языка ( черточками ; соединялись на верхнем уровне, по-нашему, родничками ; вернемся к нашим родным мудростям ; еще простите за откровенность ; пращуры наши были уверены ; изображая из себя крутых ; один замечательный тому пример ; соприкоснуть ; ...это буква « Т » . Означает « твердь »; слишком простоватый ).
Актуализация темы в научно-популярных статьях происходит уже не в прагматической ситуации, а в микросюжетах, персонажем которых, по мнению автора, может быть любой читатель: в статье А. Пиперски это ситуация школьного урока иностранного языка, а в тексте О. Маевской – чтение стихотворения М. Цветаевой. В первом случае читатель, присоединяясь к ученику, обнаруживает в знакомой ситуации непонятную область ( Разве семьи и вообще родственные связи бывают не только у живых существ ?). Вопрос задается с помощью несобственно-прямой речи – от лица читателя. Во втором случае в стихотворении обнаруживается непонятное выражение, которое объясняется в следующей части текста.
Другой, преобладающий вспомогательный микросюжет, встреченный во всех анализируемых текстах, содержит исследовательские / учебно-исследовательские ситуации. Они участвуют в реализации как информирующей, так и воздействующей функции: совершая исследовательские действия, адресат сам – под руководством автора или вместе с ним – выводит знание и убеждается в его неслучайности.
Самый показательный в этом отношении текст – статья А. Пиперски, где «учебное исследование» является одним из основных приемов.
В случаях когда автор руководит действиями адресата, маркеры двух точек зрения различаются: Попробуйте теперь ответить на вопрос : как на современном немецком языке выглядит слово « вошь » … Без сомнения, вы легко дали ответ… Построив эту форму, вы подсознательно исходили из… Вы не допустили мысли, что… ; А пока вы пробуете образовать немецкое слово « вши » … мы торжественно клянемся, что теперь-то уже сообщили вам всю правду, и обещаем не вносить больше никаких поправок… Во втором случае, когда коммуниканты вместе выводят лингвистические законы, референтом местоимения мы являются не просто носители языка ( более близкий нам пример – русский, украинский и белорусский языки ) и лингвисты ( …ни… текстов, ни… аудиозаписей… не сохранилось. Почему же мы так уверенно о нем говорим ?), но коммуниканты (субъект-объектное отношение), осуществляющие исследовательские действия (субъект-субъектное отношение): Если мы возьмем два языка, произошедших от одного предка, то окажется… ; Можно даже восстановить соответствия, которых мы не видели в примерах ; [ То, что ] мы только что сделали, [ называется реконструкцией ].
В статье О. Маевской доля исследовательских / учебно-исследовательских ситуаций гораздо меньше.
Элементы этого микросюжета наблюдаются в коротких фрагментах текста. После историко-лингвистической справки об употреблении непонятного выражения «сорок сороков» делается вывод, начинающийся со слов Выходит, « сорок сороков » – устоявшееся выражение… Вводное слово выходит имеет значение неожиданного для говорящего вывода – следовательно, это слово произносится с точки зрения читателя. Однако его включенность в контекст объяснения автором лингвистического факта затемняет референцию: создается впечатление, что делается вывод совместно проведенного исследования.
Следующий фрагмент открывает новый этап «исследования»: А откуда собственно, слово « сорок » появилось в русском языке ? Вдумайтесь : двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят… В этом ряду сорок стоит особняком. Почему ? Давайте разберемся . Императивная форма инклюзивного 1 л. мн. ч. глагола разберемся свидетельствует о призыве совершить совместное действие. Вопросы, таким образом, заданы с точки зрения автора, однако не исключена возможность их постановки адресатом.
Аналогичен по субъектной структуре последний фрагмент исследовательской ситуации: Продолжим (императивная форма инклюзивного 1 л. мн. ч.) ряд числительных, делящихся на 10… числительное девяносто образуется не по правилам… Как же оно возникло ? (вопрос может принадлежать как автору, так и адресату в позиции «исследователя»).
В статье М. Задорнова исследовательский микросюжет тоже носит локальный характер: вернемся к нашим родным мудростям ; мы видим , что они и есть главные ; если соединить к примеру « С » и « Т » ... мы получим множество слов... Любой из вас может легко этот список продолжить .
Субъектом в исследовательском микросюжете в статье В. Чудинова преимущественно является автор, что, несомненно, связано со стремлением автора сделать свою речь приближенной к научной. В этом случае автор работает с материалом и дает ему квалификации ( эту надпись, однако, нельзя считать явной ), приводит аргументы ( нельзя считать явной, поскольку она существует в виде рельефа верха головы ; как видно из всех надписей ), делает выводы ( итак, обнаружена рака… с мощами и остатками кожи антов ; таким образом, автор текста убежден, что ).
Говорить об эпизодическом включении адресата в процесс исследования (как в статье А. Пи-перски) возможно, если интерпретировать местоимения 1 л. мн. ч. как указания и на автора, и на читателя ( до сих пор нам встречались такого рода описки ; были бы иными, созвучными нашим ; мы читаем слова ; заметим , что ). Однако возможна и трактовка этого местоимения как авторского «мы», как в собственно научной речи.
В связи с этой неопределенностью невозможно выявить также и референцию субъектов действий и оценок в выражениях теперь становится понятным, весьма любопытна также надпись , можно прочитать слова ; это заставляет предполагать, что... и пр.
В результате анализа субъектной организации текстов четырех научно-популярных и псевдонаучных статей мы пришли к следующему выводу: при сходстве средств авторизации и адресации и даже при сходном составе «микросюжетов», составляющих текст (отражающих прагматическую ситуацию и связанных с ней опосредованно), субъектная структура текстов этих двух типов различна.
Прежде всего, это связано с различиями в коммуникативной ситуации, в которой функционируют тексты. Научно-популярная сфера общения включает двух коммуникантов, причем каждый имеет закрепленные социальные характеристики и по этому признаку однороден. Псевдонаучный текст имеет, во-первых, двойную адресацию (к читателю-неспециалисту и к ученому), а во-вторых, «смещенные» характеристики автора: он не ученый (по крайней мере, не лицо в статусе официального ученого), более того, он оппонирует ученым, и он, в отличие от лингвиста-популяризатора, не «переводит» специальное знание для неспециалистов, а создает первичный текст в рамках полноценной для него научной коммуникации. С последним фактором связано и различие в употреблении средств сообщения: в научно-популярных статьях встретились более сложные стратегии объяснения ‒ изложение материала от простого к сложному, сложные учебно-исследовательские процедуры и пр.
С двойной адресацией псевдонаучного текста связана и потенциально двойная интерпретация модусных рамок высказываний. Ученые, обладая научной картиной мира, способны оценить убедительность аргументации и достоверность фактов, поэтому они строят к диктум-ному содержанию высказываний свои модусные рамки, как правило отличающиеся от авторских.
Строгих различий в употреблении средств воздействия обнаружить не удалось: и научно-популярные, и псевдонаучные тексты могут иметь как наукообразную форму (с меньшим проявлением воздействующей функции), так и публицистическую (в большей степени направленную на воздействие).
Список литературы Субъектная организация научно-популярных и псевдонаучных статей лингвистической тематики
- Арутюнова Н. Д. Фактор адресата // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. М.: Наука, 1981. Т. 40, № 4. С. 356-367.
- Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике // Наука и жизнь. 2009. № 1. С. 16-24.
- Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.: Наука, 1973. 351 с.
- Падучева Е. В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива. М.: Языки славянской культуры, 2010. 480 с.