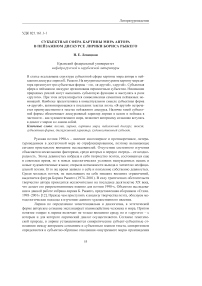Субъектная сфера картины мира автора в пейзажном дискурсе лирики Бориса Рыжего
Автор: Левицкая Нелли Евгеньевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследована структура субъектной сферы картины мира автора в пейзажном дискурсе лирики Б. Рыжего. На внутритекстовом уровне картину мира автора презентуют три субъектные формы – «я», «я-другой», «другой». Субъектная сфера в пейзажном дискурсе организована перволичным субъектом. Номинации природных реалий могут выполнять субъектную функцию и выступать в роли «другого». При этом актуализируется символическая семантика пейзажных номинаций. Наиболее презентативна в концептуальном смысле субъектная форма «я-другой», активизирующаяся в последних текстах поэта. «Я-другой» встречается преимущественно в текстах пейзажного дискурса. Наличие такой субъектной формы обеспечивает дискурсивный характер лирики в целом и пейзажа в частности – как художественного мира, позволяет авторскому сознанию вступать в диалог с миром и с самим собой.
Поэзия, лирика, картина мира, пейзажный дискурс, текст, субъектная форма, дискурсивный характер, художественный субъект
Короткий адрес: https://sciup.org/146121920
IDR: 146121920 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Субъектная сфера картины мира автора в пейзажном дискурсе лирики Бориса Рыжего
Русская поэзия 1990-х – явление многомерное и противоречивое, литературоведением в достаточной мере не отрефлексированное, поэтому вызывающее сегодня пристальное внимание исследователей. Отсутствие системного изучения объясняется несколькими факторами, среди которых в первую очередь – ее неоднородность. Эпоха девяностых вобрала в себя творчество поэтов, состоявшихся еще в советское время, но в новых идеологических условиях вынужденных искать и новые художественные языки; открыла возможности выхода к читателю неофициальной поэзии. В то же время заявило о себе и поколение собственно девяностых. Среди молодых поэтов, не испытавших на себе никаких внешних ограничений, выделяется фигура Бориса Рыжего (1974–2001). В силу трагических обстоятельств творчество автора приходится исключительно на последнее десятилетие ХХ века, что делает его репрезентативным именно для поэзии 1990-х. Объектом исследования в данной работе избрана лирика Б. Рыжего, представленная сборником «Стихи. 1993–2001» [12]. Прежде чем приступить к анализу творчества поэта, обоснуем методологические подходы к изучению данного художественного явления.
Лирика по определению экзистенциальна и диалогична, в эстетической форме авторское сознание эксплицирует взаимодействие человека и мира. Притом понятие «мира» в лирике включает не только внешнюю среду, но и «другого» – с которым и для которого лирический диалог осуществляется. Согласно генетической природе, в лирике устанавливаются синкретические субъект-субъектные отношения между авторским сознанием и субъектным планом текста, синкретизмом определяются и субъектно-образные отношения «внутреннего мира» произведения
(С. Н. Бройтман) [3]. Но дискурсивный характер художественного лирического целого обусловливает и особую читательскую позицию. Н. Д. Тамарченко, исходя из трактовки читательской активности Р. Ингарденом, М. Бахтиным, Ницше, характеризует воссоздание читателем «мира героя» не просто как воспроизведение, и даже не только как «конструирование по заданной» авторским сознанием «схеме и логике», а как «ответ читателя – вместе с автором – на смысл жизни героя, т.е. из другого плана бытия, где нет ни героя, ни его цели» [16, с. 175]. Что касается лирики, то, как представляется, в силу ее интерсубъектности между авторским и читательским сознанием также устанавливаются синкретические отношения, что и обусловливает особую глубинную восприимчивость читателем лирических текстов. Онтологический опыт лирического субъекта присваивается имплицитным читателем, становится его личным внутренним опытом, пережитым, но оцененным с позиции «внена-ходимости». Синкретизм как генетическое свойство лирики в эпоху модальности строится на отношениях не столько тождества и «нераздельности-неслиянности», сколько на отношениях дополнительности. С. Н. Бройтман назвал такие отношения «неосинкретическими» [3]. И. В. Остапенко предложила характеристику «неосин-кретического» лирического субъекта [9]. Полагаем, что современная лирика формирует «неосинкретические», основанные на дополнительности отношения авторского и читательского сознаний. «Вненаходимый» современный читатель лирики дает ответ на «целое героя» «вместе с автором», но исходя из собственной ценностной парадигмы, вступая таким образом в диалогические отношения, допускающие возможность альтернативных точек зрения.
Лирика Б. Рыжего представляет особый интерес с точки зрения читательской рецепции, что уже отмечено исследователями [1]. Не менее интересна она с точки зрении субъектной сферы, где особое место принадлежит имплицитному читателю. Конечно, на внутритекстовом уровне в лирике поэта доминирует перволич-ный субъект, но при этом почти всегда рядом с ним появляется субъектная форма «другой». В целом о ее функциях будет сказано ниже, теперь же обратим внимание на стихотворение «Начинается снег, и навстречу движению снега…» (1998) [12, с. 230], где «другой» номинирует гипотетического читателя:
А когда после смерти я стану прекрасным поэтом, для эпиграфа вот тебе строчки к статье про меня:
Снег идет и пройдет. И наполнится небо огнями. Пусть на горы Урала опустятся эти огни.
Я прошел по касательной, но не вразрез с небесами. Принимай без снобизма – и песни и слезы мои [Там же].
Как видим, имплицитный читатель введен авторским сознанием во «внутренний» мир текста, что встречается нечасто и, конечно же, делает его одной из субъектных форм, но в то же время весь текст адресован «другому», в котором так остро нуждается лирическое «я». Ему необходим «другой», обладающий близкими ценностями, но способный принять его таким, каков он есть. Ключевая фраза текста – «Я прошел по касательной, но не вразрез с небесами» – определяет ценностный план перволичного лирического субъекта и его «мир». Примем эту авторскую интенцию за точку отсчета нашей исследовательской позиции и рассмотрим лирического субъекта поэзии Бориса Рыжего в отношениях с миром.
В данном фрагменте текста «мир» лирического субъекта номинирован «небесами», что актуализирует и его онтологическое измерение («небеса» – церк.-слав.), и эмпирическое («небо» – природная пространственная номинация), его формируют «снег», «небо», «огонь», «горы», «Урал». Наличие в художественном мире образов природных реалий, на наш взгляд, позволяет актуализировать понятие пейзажного дискурса как экспликации картины мира автора (И. В. Остапенко) [9]. Полагаем, что привлечение данных литературоведческих категорий поможет выявить особенности эстетической реальности Б. Рыжего и приблизиться к пониманию трагической судьбы самого автора.
Уточним, что, собственно, мы понимаем под «пейзажным дискурсом». И. В. Остапенко дала определение пейзажного дискурса как «диалога человека и природы (органической и неорганической) в художественном тексте» [Там же, с. 78]. Термин дискурс она использовала в трактовке В. Тюпы: «…коммуникативное событие, то есть неслиянное и нераздельное событие субъекта, объекта и адресата некоторого единого (хотя порой и весьма сложного по своей структуре) высказывания» (цит. по: [Там же, с. 78]). В пейзажный дискурс исследователь «включает номинации природных реалий: в роли маркеров природного мира, очерчивающих пространственно- временные координаты художественного мира лирического субъекта; в качестве самостоятельных художественных образов или их элементов; формирующих и оформляющих лирический сюжет. При этом пейзажный дискурс может выполнять номинативно-описательную, изобразительно-выразительную и сюжетообразующую функции [Там же, c. 464]. По ее мнению, «именно пейзажная лирика эксплицирует картину мира автора, поскольку, во-первых, по сравнению с другими тематическими группами лирических произведений является наименее тенденциозной; во-вторых, отражает исконный синкретизм человека и природного мира; в-третьих, в современном мире, ставшем картиной мира, отражает стремление субъекта вернуться к целостности мира» [Там же, с. 81].
Актуализация понятия пейзажного дискурса применительно к поэзии Б. Рыжего представляется органичной, поскольку природные номинации являются достаточно презентативными в его художественном мире, но в пределы пейзажа в традиционном смысле как описания или изображения природного мира не укладываются. Что же касается утвердившегося представления о поэте как певце урбанистического мира, то оно крайне преувеличено. В количественном соотношении природные номинации значительно превышают урбанистические, а вот их корреляция нуждается в серьезном осмыслении.
К предложенному понятию пейзажного дискурса добавим, что природа в эпоху модальности мыслится как «внеролевая (естественная) граница человеческой жизни», «другая жизнь» [16, c. 67]. Традиционно присутствие природы в художественном мире именуют пейзажем. По мнению Н. Д. Тамарченко, «события частной жизни, выдвинутой искусством Нового времени в центр художественного внимания, суть взаимодействия индивидуального самоопределения с самоопределениями других» [Там же]. Полагаем, что пейзаж в эпоху модальности можно рассматривать как природу в «представлении» человека, который стал теперь «субъектом» (М. Хайдеггер). Между человеком-субъектом и природой-пейзажем устанавливаются диалогические отношения, где пейзаж наделяется функцией «другого», во взаимодействии с которым и происходит «самоопределение личности» (Н. Д. Тамарченко). Пейзаж как представленность природы в художественном дискурсе и сам приобретает черты дискурсивности. Именно через пейзаж автор- ское сознание транслирует читателю свою систему ценностей. Поскольку человеческая сущность производна по отношению к природе (и в научной парадигме, и в религиозной), естественным представляется структурирование человеческого сознания по законам мира природы, что запечатлено в мифах как коллективных формах сознания. Изображающий субъект через художественный мир эксплицирует творящее сознание. В лирике, сохранившей синкретизм «я» и «мира», лирический субъект вступает в синкретические отношения с природой-пейзажем. Читательское сознание эпохи модальности в процессе восприятия лирического текста ведет диалог с авторским сознанием через соотношение с ним его собственных представлений о мире природы. Для читателя важно не только то, где и когда происходит контакт лирического субъекта с природой – «другим», но и как тот взаимодействует с природой и с какой целью. Авторское сознание помещает, а читатель воспринимает лирического субъекта в заданных пространственно-временных параметрах природного мира; читатель овладевает поэтическим языком, предложенным авторским сознанием для характеристики лирического субъекта в его отношениях с природой. И главное, читатель вместе с автором «дает ответ» «на смысл» взаимодействия лирического субъекта с «другим» – природой, соотнося ценностную систему автора со своей собственной. Отношения человека-субъекта (автора, героя, читателя) к природе-пейзажу выявляют аксиологические приоритеты личности. Таким образом, пейзаж в современной лирике приобретает дискурсивный характер. Пейзажный дискурс в лирике эксплицирует картину мира автора, воспринятую и отрефлексированную читателем.
Поскольку пейзажный дискурс является «представлением» мира природы лирическим субъектом как организующим элементом картины мира автора, то исследование пейзажного дискурса лирики Б. Рыжего логично начать с изучения ее субъектной сферы.
Исходя из внутритекстовой типологии лирического субъекта – «я», «я-дру-гой», «другой» [9, c. 137] – в текстах поэта обнаруживаются все три субъектные формы. Интерес вызывает их количественная и хронологическая дифференциация. Безотносительно к пейзажному дискурсу обращает на себя внимание тотальное преобладание перволичной субъектной формы, притом независимо от времени написания текстов. Конечно, членение поэзии Б. Рыжего на периоды достаточно условно, но все же определенная эволюция даже в таком стремительном и кратком процессе творчества наблюдается, что отмечено многими исследователями [5; 8; 10; 14; 15]. Обнаруживается это и при анализе пейзажного дискурса лирики автора. Кроме того, и сам поэт выделяет ученический и самостоятельный этапы своего творчества.
Лирическое «я» у Б. Рыжего представлено собственно перволичной субъектной формой в начальной и косвенных формах местоимения я : «Урал научил меня не понимать вещей / элементарных» [12, c. 7], «хочу я крест оставить в этом мире» [Там же, c. 8], «В стране гуманных контролеров / я жил – печальный безбилетник» [Там же, c. 21]; перволичными глагольными формами: «Под сине-голубыми облаками / стою и тупо развожу руками, / весь музыкою полон до краев» [Там же, c. 296]. Примечательно, что перволичный лирический субъект помещен либо в природное пространство, либо в урбанистическое, их соотношение требует отдельного осмысления, как и вопрос временного измерения картины мира автора.
Перволичный субъект вместе с «другим» формирует коллективное «мы»: «Разбитые – мы стали – странные, / а листья в сквере стали алыми» [Там же, c. 19]. «Другим» может быть лирическая героиня: «Я угрюм, но хорошо нам вместе – / ты легка» [Там же, c. 32], – если между «я» и «ты» предполагаются близкие отношения, возможна форма «мы с тобой»; либо собственно дистанцированный «другой» или «другие» с общей судьбой и интересами: «Мы там играли в карты, / мы пили там вино» [Там же, c. 50], «Никогда, никогда мы не сгинем, / мы прочней и нежней, чем гранит» [Там же, c. 76].
Лирическое «я» также может быть выражено имплицитно, внеличной субъектной формой, например, в стихотворениях «Писатель» [Там же, c. 128], «…дым из красных труб…» [Там же, c. 135], «Поехать в августе на юг…» [Там же, c. 146]. Но таких текстов, где субъектная сфера организована внеличной субъектной формой и иные субъектные формы практически отсутствуют, очень мало, а по времени использования они принадлежат к завершению более раннего периода творчества, примерно к середине 1990-х, когда творческие поиски были в самом разгаре.
Субъектная организация на внутритекстовом уровне представлена также «другим», в функции которого может выступать, как уже отмечалось, лирическая героиня, присутствие которой обнаруживается через прямую и косвенные формы местоимения ты . При апелляции к «ты» зачастую использованы классические формы обращения «мой ангел», «ангел милый», «мой свет», «друг мой нежный, друг жестокий».
Кроме того, «другой» может номинировать личностей из биографического контекста автора, указание на диалог с которыми заявлено в посвящении или эпиграфе: Олег Дозморов, Роман Тягунов, Александр Леонтьев, Евгения Изварина и др.; либо из литературно-поэтического круга предшественников и современников эмпирического автора: А. Блок («Я умираю тоже, / здравствуй, товарищ Блок…» [Там же, c. 39]), В. Ходасевич («Что сказали Вы молчаньем, / Никому я не скажу» [Там же, c. 38]), И. Бродский («Прощай, олимпиец, прощай навсегда – / сегодня твоя загорелась звезда [Там же, c. 48]), Е. Рейн («Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь, / в белом плаще английском уходит прочь» [Там же, c. 113]), А. Кушнер («сам Александр Семеныч Кушнер / меня зовет к себе домой» [Там же, c. 248]) и др., – притом все они, прямо или имплицитно обозначенные, помещены в лирическое настоящее время, в котором реализуется диалог поэта с культурной традицией.
В качестве «другого» выступают и метафизические сущности – «бог» и «ангелы», с которыми у лирического субъекта складывается прямой и непосредственный диалог, демонстрирующий зачастую амбивалентное отношение к представителям сакрального верха, иногда прорывающееся в претензии и откровенные обвинения.
Проблема субъектной организации лирики Б. Рыжего представляется сложной и интересной структурой, требующей отдельного исследования. В рамках же данной работы нас интересует субъектная форма «другой», выраженная номинациями природных реалий. Примеров не так много, но они достаточно репрезентативны для выявления субъектной функции пейзажного дискурса в поэзии автора. Преимущественно природные номинации обретают субъектный статус через прием олицетворения: «…упал он с неба, белый и хрустящий. / Деревья на руках его качают, / а я гляжу, какой он синеватый» [Там же, c. 89]; «Я шел за снегом, размышляя о / бог знает, чем, березы шли за мною» [Там же, c. 288], – здесь природные реалии выполняют не только пассивную функцию, но становятся активным действующим субъектом. Возможны варианты иного введения природного мира в художественное пространство текста: «Обычная осень в окне. <…> Листва залетает в окно. <…> Будь, осень, всегда начеку» [Там же, c. 178], – из номинации пространственного маркера («осень в окне») через языковую метафору («листва залетает») «осень» наделяется ролью онтологического «другого»: «Стой, смерть, безупречно на стреме. / Будь, осень, всегда начеку».
В приведенных примерах пейзажные номинации в роли «другого» выполняют дополняющую функцию, они расширяют и наполняют мир перволичного субъекта так необходимыми ему собеседниками. Более сложная картина разворачивается в тексте «Двенадцать лет. Штаны вельвет…» (1998) [Там же, c. 218]. Пейзажные номинации появляются здесь изредка, но именно им, как представляется, принадлежит сюжетообразующая роль. Романтическое воспоминание о детской влюбленности лирического субъекта сопровождает традиционный символический пейзажный образ – «цвела сирень». Белый цвет, дурманящий аромат природной реалии продуцируют элегическое настроение, сама же номинация выполняет функцию пространственного маркера, которая тут же сменяется субъектной и включает уже иронический модус: «В лицо черемуха дышала». Временные природные маркеры «день» и «век» в раскавыченной цитате с измененной глагольной формой «И дольше века длился день» иронически снижают пастернаковско-айтматовский высокий образ, он попадает в элегическое уединенное пространство перволичного субъекта. Но переплетение элегического и иронического способов формирования лирического события (добавим, реализующегося не только средствами пейзажного дискурса) неожиданно наполняется трагизмом: «Так над коробкою трубач с надменной внешностью бродяги, с трубою утонув во мраке, трубит для осени и звезд. И выпуклый бродячий пес ему бездарно подвывает. И дождь мелодию ломает». «Осень» – время увядания, завершения природного календарного цикла, «звезды» – маркер суточного ночного времени и символически – инобытия, «вечности». «Трубач» – один из «других» в субъектной сфере текста, он же – двойник перволичного субъекта, свою мелодию-воспоминание играет для «других», принадлежащих уже не «его» миру: «То, что было, не повторится никогда». Элегичность здесь граничит с трагизмом. Попытка уйти от него – введение еще одной субъектной формы, «бродячего пса», коррелирующей с образом трубача – «с надменной внешностью бродяги». Но эпитет выпуклый нивелирует естественность природного образа «пса», а его «бездарное подвывание» лишает эстетической ценности и игру «трубача». Элегическое воспоминание-переживание детского чувства, увиденное сквозь призму типологизированного будущего-настоящего лирического субъекта, взгляд на себя из будущего в прошлое и осознание невозможности в настоящем профанном мире романтической высокой любви продуцирует трагическое отношение к миру. В то же время «надменная внешность» «трубача» – «бродяги» и «подвывание» «бродячего» «пса» трагедию превращают в фарс. Но при этом финальная фраза текста – «И дождь мелодию ломает» – одновременно и кульминация, и развязка лирического сюжета переживания-воспоминания, наполняется катарсическим смыслом. И происходит это за счет введения природной номинации «дождь», которая выполняет не только субъектную функцию, но и сюжетообразующую. «Дождь» на символическом уровне – очищение, обновление, оживление. Природа как естественная гармония не терпит фальши. В мире «кинотеатров», «магазинов» и «ЖКО», оформляющих пространство лирического субъекта в виртуальном будущем, ни настоящая жизнь, ни высокие чувства, ни гармоническая мелодия невозможны. Попытка решить конфликт внутреннего и внешнего осуществлена авторским сознанием за счет актуализации иронического способа завершения эстетического целого, но за авторской иронией скрыта глубокая трагедия бытия личности, не вмещающейся в одномерный бытовой мир. Сознательно или бессознательно, но авторское сознание обращается к естественной гармонии. Природа выступает той высшей силой, которая возвращает изначальный порядок миру: «И дождь мелодию ломает». Добавим, «мелодию» – не гармоничную, «подвывание». Природная номинация, таким образом, выполняя субъектную функцию «другого», играет решающую роль в сюжетостроительстве.
Кроме «я» и «другого», в субъектную сферу картины мира Б. Рыжего на внутритекстовом уровне входит также и субъектная форма «я-другой». Такая форма присуща поэзии неклассического периода эпохи модальности и для русской поэзии второй половины ХХ века является достаточно презентативной. «Я-другой» позволяет лирическому субъекту посмотреть на себя со стороны, вступить в диалог с собой «другим», вести внутренний диалог с самим собою. Именно она обеспечивает неосинкретический (по С.Н. Бройтману [3]) характер лирического субъекта поэзии ХХ века. В лирике Б. Рыжего такая форма встречается, по сравнению с другими, довольно редко. Так, из 291 стихотворения анализируемого сборника она присутствует лишь в двух десятках текстах, но само наличие/отсутствие ее показательно для картины мира автора, поэтому требует более пристального внимания. В ранних текстах форма «я-другой» практически не встречается, впервые появляется она в стихотворении «…Хотелось музыки, а не литературы» (1996): «А я хотел еще, когда ребенком был, / большого, светлого, чтоб как у взрослых, горя. / Вот тут не мучайся – его ты получил» [12, с. 86]; и в тексте, завершающем в сборнике подборку за 1996 год: «…Глядишь на милые улыбки / и слышишь шепот за спиной – / редакционные улитки / столы волочат за собой» [Там же, с. 92]. В стихотворениях 1997 года эта субъектная форма встречается также дважды, актуализируя экзистенциальный план авторефлексии: «Две сотни счетчик намотает, – / очнешься, выпятив губу. / Сын человеческий не знает, / где приклонить ему главу» [Там же, с. 103]; или поэтологические поиски автора: «В номере гостиничном, скрипучем, / грешный лоб ладонью подперев, / прочитай стихи о самом лучшем, / всех на свете бардов перепев» [Там же, с. 121].
Чаще форма «я-другой» востребована в текстах 1998 года, здесь их уже восемь: «В безответственные семнадцать» [Там же, с. 194], «Стихи уклониста Бориса Рыжего» [Там же, с. 195], «Оркестр играет на трубе» [Там же, с. 214] и др. В этих стихотворениях представлены все три внутритекстовые субъектные формы, вступающие между собой в сложные диалогические отношения.
К примеру, в стихотворении «Спит мое детство, положило ручку» [Там же, с. 192] функционируют перволичный субъект – «мое детство», «а я ищу фломастер, авторучку»; «другой» – «бабочки». Субъектная форма «ты» здесь выполняет разные функции, притом их можно варьировать в зависимости от трактовки семантики «детства». «Мое детство» можно воспринимать как «я-другого» в прошлом, но можно и как обращение к спящему сыну: «Спит мое детство, положило ручку, / ах, да под щечку» [Там же, с. 192]. «Щечка» тут коррелирует с «моим детством» как «другим» – сыном, а «ручка», в силу своей многозначности, дает свободу интерпретации и позволяет трактовать «мое детство» и как «другого», и как «я-другого».
Возможно, наблюдение за спящим ребенком навеяло автору воспоминания о собственном детстве, где «за рассветом / идет рассвет», и размышления о себе в прошлом и будущем. «Детство» переносит перволичного субъекта в прошлое за счет актуализации онирического хронотопа, сформированного из пейзажных обра- зов. С мира «детства» – «сна» время расширено повторяющимся «рассветом» – вечным началом, а пространство маркировано «летающими» «бабочками» – символом вечного перерождения и преображения, метаморфоз природного мира, где смерть не является трагедией, а лишь переходом из одной фазы жизни в другую.
Употребление просторечных и грубых выражений – «ни хрена», «допетрил» – свидетельствует скорее в пользу трактовки «ты» как «я-другого». «Я» в тексте имеет опыт собственного «понимания» жизни «бабочек»: «Они летают, / и ни хрена они не понимают, / что умирают». Но тут же дается иное толкование судьбы «бабочек», которое сложилось у лирического субъекта благодаря контакту с еще одним природным образом – «травинкой»: «Возможно, впрочем, ты уже допетрил, / лизнув губою / травинку, – с ними музыка и ветер. / А смерть – с тобою». «Трава» здесь может быть воспринята как символ знания и силы. В природе ничто не умирает и не исчезает бесследно. Все трансформируется, перетекает из одного состояния в другое. Потому «музыка и ветер» субстанциально близки. О сущности музыки в поэзии Б. Рыжего говорят практически все исследователи. Для нас же важно, что «музыка» и «ветер» у Б. Рыжего одной природы, как, собственно, и «бабочки». А вот на человека, в данном случае писателя или поэта, такой порядок вещей в картине мира автора не распространяется.
В тексте перволичный субъект взрослого настоящего и «другой» – «бабочки» – находятся в различных хронотопах: конечного времени и вечности. Своим трагическим опытом познания мира перволичный субъект делится с «собой-другим» детства, при этом сожалея об утрате гармоничного единства: «Зачем твой сон не стал моею темой?». Но трагедия состоит не столько в выпадении из гармоничного миропорядка, сколько в его сознательном нарушении: «Ты навсегда бессилен, но бесстрашен. / С сачком при этом». То есть человек-субъект в такой картине мира сам отделяет себя от мира природы, ориентируется на свои выводы о мироустройстве, чем продуцирует собственное трагическое миропонимание, а преодоление его видит в «бессильном», но «бесстрашном» и даже агрессивном противостоянии – «С сачком при этом».
Как видим, природные реалии, на первый взгляд играющие второстепенную роль, включаются в процесс построения сюжета. Перволичный субъект настоящего взрослого помнит свое детское восприятие мира как ряда бесконечных трансформаций и преображений, презентованных миром «другого» – «бабочек», оно ему еще близко. Но в то же время собственный жизненный опыт, полученный через «травинку» (достаточно амбивалентный в данном случае образ, знания требуют ответственного их использования), приводит лирического субъекта к противостоянию с миром живой природы, выводит за пределы гармоничного мироустройства, что и наполняет трагизмом его мироощущение. Знание вечных законов бытия утрачивает актуальность для лирического субъекта, сориентированного на собственный жизненный опыт. Но наличие субъектной формы «я-другой» – «моего детства» – свидетельствует о непрекращающемся внутреннем диалоге, стремлении перволичного субъекта к поискам гармонии даже через отрицание.
Повторимся, субъектная форма «я-другой» встречается крайне редко у Б. Рыжего. Тем более показательно, что актуализируется она в последних текстах 2000–2001 годов, и в них также, как и в проанализированном стихотворении, характеризует пейзажный дискурс лирики автора: «Сесть на корточки возле двери в коридоре» [Там же, с. 336]; «Если в прошлое, лучше трамваем» [Там же, с. 341];
«И вроде не было войны» [Там же, с. 346]; «Ничего не надо, даже счастья» [Там же, с. 351].
В первом из названных текстов субъектная сфера организована внеличной субъектной формой, выраженной инфинитивной глагольной формой: «Сесть на корточки возле двери в коридоре / и башку обхватить: / выход или не выход уехать на море, / на работу забить?» [Там же, с. 336]. Попутно отметим, что место обретения покоя для лирического субъекта – «море» – природное пространство, которое гипотетически желаемо, поскольку в прошлом оно «спасало»: «Над синей волною / зеленела луна». Номинации локуса и его эпитеты характеризуют природный хронотоп, в то же время включают культурологический амбивалентно-символический план: «волна» – символ жизни, но и жизненных перипетий, цветовые определения «синей» и «зеленела» – символика познания, «луна» – ночной хронотоп, актуализирующий творческую активность, и др. Обратим внимание, что данные пространственно-временные номинации использованы поэтом в традиционном романтическом ключе. И, что показательно, «луна» как природно-символический образ для лирического субъекта в прошлом предстает авторитетным источником и знаний, и творчества: «И, на голову выше, стояла с тобою, / и стройна, и умна». Кроме того, хронотопный маркер получает субъектный статус. «Море», напротив, утрачивает пространственную семантику, когда попадает в детскую считалочку: «Море волнуется – раз». Оно становится маркером внутреннего состояния лирического субъекта, утратившего состояние покоя и гармонии, разрушенной вмешательством в природно-интимное пространство грубого и циничного социума: «Пограничники с вышки своей направляли, / суки, прожектора / и чужую любовь, гогоча, освещали».
Как видим, субъектная сфера постепенно наполняется «другими» («луна», «пограничники»). Их месторасположение типологически сходно, но отношение к ним лирического субъекта предельно противоположное: «луна» – «на голову выше», «и стройна, и умна»; «пограничники» – на «вышке», «суки». Природный мир и социум в прошлом лирического субъекта получают характеристики вполне в духе романтического мировосприятия, выстроенного на оппозиции двоемирия – природно-внутреннего («своего») и социально-внешнего («чужого») миров. Сам же лирический субъект, представленный формой «я-другой» – «ты», находится в «своем» пространстве, где «луна» ему субстанциально близка – «стояла с тобою, / и стройна, и умна». Здесь этимология «ты» не дает возможности иных трактовок.
Далее же по тексту, в настоящем «пасмурном дне» лирического субъекта, протекающим «в коридоре» (отметим, пограничном пространстве, обусловливающем необходимость «выхода»-выбора и его антиномичность – «то ли счастье свое полюби, то ли горе»), – появляется еще одно «ты»: «вставай и пойдем». Возможно, это и обращение к «себе-другому», если бы не последующее: «В магазине прикупим консервов и хлеба / и бутылку вина». Видимо, здесь появляется «другой», иной дистанцированный субъект, который практически во всех текстах Б. Рыжего присутствует, то названный конкретным именем, собственным или нарицательным («друг», «дружок»), то существующий лишь в авторском сознании имплицитный собеседник. Лирический субъект вместе с таким «ты» «выходит» из «коридора», но отправляется в «магазин», а не к «морю» и «небу». Показательно, что во всем тексте не появится перволичная субъектная форма. Лирический субъект презентован в последней оформляющей сюжет фразе внеличной формой – «не спасет» и «я-дру-гим» – «тебя». Природные номинации с символическим смыслом лишаются актив- ности, нереализованный субъектный статус переводит их в хронотопные маркеры, а мир, ими очерченный, закрывается для лирического субъекта: «Не спасет тебя больше ни звездное небо, / ни морская волна». «Чужой» в прошлом внешний мир не стал «своим» для лирического субъекта, но свое разрушительное действие он все же произвел: он закрыл ему «вход» в изначально «свое» пространство, в картине мира автора презентованное пейзажными номинациями.
Подобная ситуация складывается в текстах с актуализированной в пейзажном дискурсе субъектной формой «я-другой»: «Да по улице вечной печали / в дом родимый, сливаясь с закатом, / одиночеством, сном, листопадом, / возвращайся убитым солдатом» [Там же, с. 341]; «Ничего действительно не надо, / что ни назови: / ни чужого яблоневого сада, / ни чужой любви, / что тебя поддерживает нежно, / уронить боясь. / Лучше страшно, лучше безнадежно, / лучше рылом в грязь» [Там же, с. 351].
Вернемся теперь к тексту, с которого мы начинали анализ субъектной сферы картины мира, представленной пейзажным дискурсом: «Начинается снег, и навстречу движению снега…» (1998) [Там же, с. 230]. Это стихотворение примечательно тем, что обращено к «другому», помещенному в пространство будущего, где перво-личный субъект физически уже отсутствует: «А когда после смерти я стану прекрасным поэтом…». Этот «другой» может быть и конкретным человеком из окружения поэта, но может быть воспринят и как любой читатель текста и поэтического наследия в целом. Субъектная парадигма здесь сформирована из перволичной формы – «я», «мои»; «другого» – «не нужна мне твоя болтовня», «вот тебе строчки к статье про меня», «принимай без снобизма – и песни и слезы мои»; «я-другой» – «присядь, закури не спеша». Кроме того, «я-другой» представлен метонимическим образом – «душа». Показательно, что «я-другой», «душа» и перволичная форма находятся в инициальных позициях, соответственно, в начале и финале текста. Для лирического субъекта в целом такая последовательность своих презентаций, видимо, важна. «Душа» «поднимается вверх» – «навстречу движению снега». Природный атмосферный маркер наполнен и здесь символическим амбивалентным смыслом: характеризует сакральное пространство верха, имплицитно чистоты, но и холода, льда, то есть воды с семантикой жизни, находящейся в латентном состоянии.
Обратим внимание: в первой строфе «я-другой» представлен в двух ипостасях – «душа», поднимающаяся «вверх», и «ты» – тот, кто не поднялся («присядь, закури не спеша»), которому «больше думать не надо» «о жизни поэзии, о судьбе человека». Ситуация развоплощения и разделения здесь гипотетическая, во второй строфе появится перволичный субъект и «другой» «ты» – постоянный его спутник, с которым диалог не прекращается практически ни в одном тексте, даже если такое общение внешне и отрицается: «Я покуда живой, не нужна мне твоя болтовня». Ему же, имплицитному «другому», перволичный субъект адресует описание «своего» мира: «Снег идет и пройдет. И наполнится небо огнями. / Пусть на горы Урала опустятся эти огни». Расшифровывая символический код фразы, получим следующее отношение лирического субъекта к миру: источником воскресения является сакральный верх, презентованный «неба огнями», этот «огонь» «прекрасный поэт» отдает своей земной обители, «горам Урала». Обнаруживается традиционная формула поэтического служения миру, в чем находили вдохновение и романтики ХIХ века, и модернисты века ХХ. Оригинальной же видится следующая автохарактеристика лирического субъекта: «Я прошел по касательной, но не вразрез с небесами». Осмысление пограничного положения лирического субъекта по отношению к сакральному «верху», обозначенному природным маркером, требует анализа пространственно-временной сферы картины мира автора, представленной пейзажным дикурсом, что будет сделано в последующих исследованиях. Здесь же важно отметить, что в субъектной парадигме проанализированного текста амбивалентный «я-другой» одной своей ипостасью сориентирован на сакральный «верх», другой же – остается в земной юдоли. Дистанцированный «другой» в данном случае представляет собой будущего читателя, включенного в субъектную сферу текста. Все субъектные формы текста работают на создание многомерного и противоречивого облика лирического субъекта в его диалоге с миром.
Итак, исследование структуры субъектной сферы картины мира автора в пейзажном дискурсе лирики Б. Рыжего позволяет сделать следующие выводы. На внутритекстовом уровне картину мира автора презентуют три субъектные формы – «я», «я-другой», «другой». В количественном отношении значительно преобладает лирическое «я», выраженное перволичными местоимениями и глагольными формами. Перволичный лирический субъект, как правило, выполняет организующую функцию субъектной сферы. Изредка лирическое «я» презентует внеличная форма, встречается она в текстах середины 1990-х годов. Экспликация личного начала на уровне субъектной организации свидетельствует о ярко выраженном лирическом характере поэзии Б. Рыжего, несмотря на стремление автора к прозаизации стиха. Субъектная форма «другой» не менее актуальна в субъектной сфере лирики поэта. Лирическое «я» постоянно нуждается в собеседнике, находит его среди своих друзей, как правило, поэтов, в своем реальном и виртуальном окружении, в культурно-поэтической традиции. Напомним, детальный анализ субъектной организации нуждается в отдельном серьезном исследовании, нас же интересовали в первую очередь тексты пейзажного дискурса. Как установлено, в круг собеседников лирического субъекта попадают и природные реалии. Незначительное количество пейзажных номинаций в субъектной функции компенсируется их ролью в формировании лирического сюжета. Происходит это благодаря актуализации символической семантики названий природных явлений. Лирический субъект оказывается способным воспринимать природный мир и вступать с ним в диалог для осознания вопросов экзистенциального характера. При этом лирическому субъекту, как правило, известны глубинные символические смыслы проявлений природного мира, но зачастую он игнорирует их, выстраивая собственную парадигму отношений, отличную от традиционной аксиологии. Субъектная форма «я-другой» в количественном отношении малочисленна, но является весьма презентативной и в смысле понимания характера лирического субъекта в целом в поэзии автора, и для выявления функций пейзажного дискурса лирики. Показательно, что встречается эта форма преимущественно в текстах пейзажного дискурса. Пейзажный дискурс создает предпосылки для диалога лирического субъекта с самим собой. Природа реально ли, через воспоминания, или виртуально, активируя свои глубинные смыслы, помогает лирическому субъекту интериоризироваться, заглянуть в себя. В отношения «я-мир» постепенно проникают отношения «я-в-мире». Субъектная форма «я-другой» впервые наблюдается в анализируемом сборнике в середине 1990-х, в последних стихах встречается достаточно часто. Именно она, как представляется, обеспечивает дискурсивный характер лирики в целом, в данном случае пейзажного дискурса. Имплицитный читатель включается в прямой диалог с авторским сознанием, давая собственные ответы на возникающие экзистенциальные вопросы. Природа, в художественном тексте представленная пейзажным дискурсом, продуцирует вечные смыслы и для авторского сознания, и для читателя. Лирический субъект Б. Рыжего как одна из форм авторского сознания в его картине мира на метатекстовом уровне обнаруживает неосинкретический характер, проявляющийся в многомерности личности, ее противоречивости, неприятии и любви к миру одновременно, в стремлении создать собственный мир по собственным законам.
Список литературы Субъектная сфера картины мира автора в пейзажном дискурсе лирики Бориса Рыжего
- Арсенова Т. А. Борис Рыжий: образ поэта в читательской и литературно-критической рецепции//Литература Урала: история и современность: сб. статей. Вып. 4: Локальные тексты и типы региональных нарративов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. С. 452-467.
- Арьев А. Блок, Иванов, Рыжий. О стихах Бориса Рыжего //Журнальный зал. Звезда. 2009. № 9. URL: http://magazines.russ.ru/zvezda/2009/9/aa12.html. (Дата обращения: 15.08.2016.)
- Бройтман С. Н. Историческая поэтика: учеб. пособие. М.: Рос. гос. гум. ун-т, 2001. 320 с.
- Изварина Е. «Он стал легендой…» //Уральское отделение РАН. Наука Урала. 2008. № 1-2 (963). URL: http://www.uran.ru/gazetanu/2008/01/nu01_02/wvmnu_p11_01_02_012008.htm. (Дата обращения: 15.08.2016.)
- Казарин Ю. В. Поэт Борис Рыжий: монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. 310 с.
- Кузин А. В. Следы Бориса Рыжего. Заметки из дневника. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. 104 с.
- Кушнер А. Стихи, переписка, разговоры с Борисом Рыжим//Russian Literature. 2010. № LXVII. С. 85-96.
- Машевский А. Последний советский поэт: О стихах Бориса Рыжего // [Электронный ресурс] // Журнальный зал. Новый мир. 2001. № 12. URL: http://magazines. russ.ru/novyi_mi/2001/12/mashevsk.html. (Дата обращения: 15.08.2016.)
- Остапенко И. В. Пейзажный дискурс как картина мира в русской лирике 1960-1980-х годов: дис. … докт. филол. н.: 10.01.02./И. В. Остапенко; Таврический национальный университет. Симферополь, 2013. 530 с.
- Пурин А. «Под небом, выпитым до дна» (Борис Рыжий) //Борис Рыжий. URL: http://borisryzhy.ru/pod-nebom-vypitym-do-dna-aleksej-purin/. (Дата обращения: 15.08.2016.)
- Рейн Е. Вся жизнь и еще «Уан бук» //Журнальный зал. Вопросы литературы. 2002. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2002/5/rein. html. (Дата обращения: 15.08.2016.)
- Рыжий Б. Стихи. 1993-2001. СПб.: Пушкинский фонд, 2014. 368 с.
- Славникова О. Призрак Лермонтова //Журнальный зал. Октябрь. 2000. № 7. URL: http://magazines.russ.ru/october/2000/7/slavnik.html. (Дата обращения: 15.08.2016.)
- Собенников А. С. Поэзия Бориса Рыжего: образ лирического героя//Литература Урала: история и современность: сб. статей. Вып. 3. Т. 1. Екатеринбург: Союз писателей, 2008. С. 91-99.
- Сухарев Д. «Влажным взором» //Борис Рыжий. URL: http://borisryzhy.ru/vlazhnym-vzorom-dmitrij-suxarev/. (Дата обращения: 15.08.2016.)
- Теория литературы: учеб. пособие: в 2 т. Т. 1: Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика/Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман; Под ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Академия», 2004. 512 с.
- Шайтанов И. Борис Рыжий: последний советский поэт?//Дело вкуса: Книга о современной поэзии. М.: Время, 2007. С. 519-533.