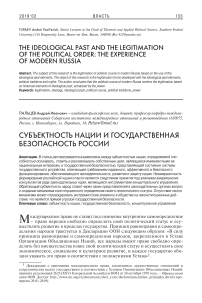Субъектность нации и государственная безопасность России
Автор: Пальцев Андрей Иванович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается взаимосвязь между субъектностью нации, определяемой способностью осознавать, ставить и реализовывать собственные цели, являющиеся имманентными ее национальным интересам, и государственной безопасностью, представляющей состояние системы государственного устройства, отвечающее требованиям надежного, эффективного и безопасного функционирования, обеспечивающего жизнедеятельность, развитие и защиту нации. Незавершенность формирования российской нации отчасти является следствием принятия под влиянием американских консультантов ряда законодательных норм, являющихся инструментами концептуального управления. Обретающий субъектность народ ставит через своих представителей в законодательных органах вопрос о создании механизма конституционного определения своего политического статуса. Отсутствие такого механизма может спровоцировать экстремистские элементы в обществе на неконституционные действия, что является прямой угрозой государственной безопасности.
Субъектность нации, государственная безопасность, концептуальное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/170170891
IDR: 170170891 | DOI: 10.31171/vlast.v27i2.6339
Текст научной статьи Субъектность нации и государственная безопасность России
М еждународное право не ставит под сомнение внутреннее самоопределение – право народов свободно определять свой политический статус и осуществлять развитие в пределах государства. Принцип равноправия и самоопределения народов трактуется в Декларации ООН следующим образом: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава»1.
Таким образом, трактовка имеющего международно-правовую основу тезиса, что нация формирует государство, предполагает, что нация обладает субъектностью. Под субъектностью нации нами понимается совокупность системных качеств, идентифицирующих ее в историческом пространстве и времени, определяющих способность осознавать, ставить и реализовать собственные цели, имманентные национальным интересам.
В отличие от этноса, имеющего естественные основания и проходящего определенные этапы этногенеза без участия государства, нация формируется на таких матрицах, как семья, школа, институт, армия, производственный коллектив, традиции, конфессия, цивилизационные ценности. Нация – это категория историческая. Нация, возникшая на определенном этапе развития человечества, объединяет граждан определенного государства, следовательно, судьба нации и судьба государства находятся в непосредственной зависимости.
Если в результате созревания объективных и субъективных предпосылок нация посредством революции трансформируется в новое качество, сохраняя свои социокультурные особенности, то ее субъектность воспроизводится на новом витке исторического развития.
В 1917 г. все существующие партии представили свои проекты в действии, нация выбрала большевистский проект. Безусловно, выбор, сделанный в результате конфликтного противоборства, стоил миллионов жизней. Но тот порыв, который был заложен идеей социальной справедливости, соответствующей ментальным основам нации, позволил проявить трансформированную субъектность в период создания основ нового государства, и особенно в горниле Великой Отечественной войны.
Обретение субъектности нацией тормозится, если в случае поражения государства происходит ее демонтаж, а последующее формирование совершается под внешним воздействием.
Говоря о реформах 1990-х гг., С.Г. Кара-Мурза отмечал: «Крайне жесткое, во многих отношениях преступное воздействие на массовое сознание имело целью разрушение культурного ядра народа, его системы ценностей» [Кара-Мурза 2007: 142]. О ситуации в экономике свидетельствуют данные, приведенные Е.М. Примаковым: «Общие потери российской экономики за время проведения либеральных реформ 1992–1998 годов превысили более чем в два раза потери советской экономики в годы Второй мировой войны» [Примаков 2018: 309].
Формирование юридических норм, регламентирующих деятельность государственных институтов и граждан, осуществляемое при активном участии консультантов страны-победительницы, имеет своей целью концептуальное управление страной в будущем, предполагающее включение управляемого объекта в определенную систему ценностей, в результате чего он принимает в качестве эталонной модели мира некую нормативную модель, заданную субъектом управления.
В основу Конституции РФ, замечает В. Л. Манилов, были положены либеральные по своей сути идеи [Манилов 1995]. В информационном противоборстве победила система, идеологической основой которой является либерализм. Встроенные в основополагающие законодательные документы нормы, позволяющие осуществлять концептуальное управление Россией, продолжают действовать и сегодня1. Учитывая, что администратор USAID и его замести- тель назначаются президентом с согласия сената и действуют в координации с государственным секретарем США, то потраченные агентством за 2 десятилетия работы в России 2,7 млрд долл., надо полагать, послужили целям создания надежной системы концептуального управления Россией.
Однако концептуальное управление и субъектность нации, да еще в условиях ведущейся против России глобальной гибридной войны, – вещи несовместимые.
16 ноября 2017 г. депутат Государственной думы Федерального собрания В.В. Бортко внес на рассмотрение в качестве законодательной инициативы проект федерального конституционного закона «О Конституционном Собрании Российской Федерации». До него было еще 5 попыток, но предусмотренный Конституцией России орган так и не был создан. Международными законами и российской конституцией предусмотрен легитимный способ определения своего политического статуса российским народом, но отсутствует законодательный орган, имеющий полномочия осуществлять эту процедуру.
Справедливость, державность и демократия – такие предпочтения россиян выявил научно-исследовательский центр Института социологии РАН. Главной ценностью остается социальная справедливость, значение которой выросло с 47 до 59%. «Это не запрос на “уравниловку” советского образца, он намного сложнее, – подчеркивает руководитель центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН В. Петухов. – Прежде всего, это запрос на равенство возможностей для самореализации, равенство всех перед законом». Впервые за 4 года социологи РАН зафиксировали увеличение значимости демократии для россиян (с 27 до 37%). Причина, как полагает В. Петухов, в том, что «люди во всех опросах ясно выразили недовольство пенсионной реформой, а их мнение проигнорировали. И пока еще робкий запрос на демократию на самом деле ставит вопрос о новых институтах, через которые граждане могли бы донести свое мнение до власти»1.
Результаты этих социологических исследований отражают и проблемы легитимной корректировки политической системы власти. «Каждому народу причитается своя, особая, индивидуальная государственная форма и конституция, соответствующая ему и только ему, – утверждал И.А. Ильин. – Нет одинаковых народов и не должно быть одинаковых форм и конституций. Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и может стать гибельным» [Ильин 1993: 28].
Отсутствие легитимного способа определения своего политического статуса провоцирует экстремистскую часть общества на неконституционные действия, что является прямой угрозой государственной безопасности России. Как показывает политическая практика России, трансформация политической системы государства конструктивно может осуществляться лишь как революция сверху, а не как «русский бунт, бессмысленный и беспощадный».
Список литературы Субъектность нации и государственная безопасность России
- Ильин И.А. 1993. О грядущей России. М.: Воениздат. 368 с
- Кара-Мурза С.Г. 2007. Матрица «Россия». М.: Алгоритм. 320 с
- Примаков Е.М. 2018. Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее. М.: Центрполиграф. 607 с