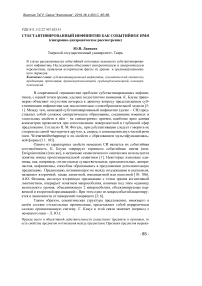Субстантивированный инфинитив как событийное имя (синхронно-диахроническое рассмотрение)
Автор: Ланских Юлия Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и истории языка
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается событийный потенциал немецкого субстантивированного инфинитива. Исследование объединяет синхроническую и диахроническую перспективы, привлекая исторические факты из древне- и средневерхненемецкого периодов.
Субстантивированный инфинитив, семантический синтаксис, предикация, пропозиция, древневерхненемецкий, средеверхненемецкий, нововерхненемецкий
Короткий адрес: https://sciup.org/146281544
IDR: 146281544 | УДК: 811.112.22`367.625.41
Текст научной статьи Субстантивированный инфинитив как событийное имя (синхронно-диахроническое рассмотрение)
В современной германистике проблеме субстантивированных инфинитивов, с нашей точки зрения, уделено недостаточно внимания. К. Блуме правомерно объясняет отсутствие интереса к данному вопросу представлением субстантивации инфинитива как исключительно словообразовательной модели [5: 1]. Между тем, немецкий субстантивированный инфинитив (далее – СИ) представляет собой сложное синкретическое образование, соединение именных и глагольных свойств в нём – не симметрично; причем, наиболее ярко данная асимметрия проявляется при сопоставлении поверхностной и глубинной сфер предложения. Согласно П. М. Фогель, при субстантивации следует говорить не о переходе одной части речи в другую, а, скорее, о совмещении двух частей речи (нем. Wortartenüberlappung) и их свойств с образованием мультифункциональ-ной формы [11: 105].
Одним из характерных свойств немецких СИ является их событийная соотнесённость. К. Блуме оперирует термином событийные имена (нем. Ereignisnomina) [там же], в метаязыке семантического синтаксиса используется понятие имена пропозициональной семантики [1]. Некоторые языковые единицы, как, например, отглагольные существительные, прилагательные, деепричастия, инфинитивы, способны образовывать в предложении дополнительную предикацию. Предикацию, возникающую не между подлежащим и сказуемым, называют вторичной, также латентной, имплицитной или неполной [10: 106]. А.Ю. Фомина, исследуя вторичную предикацию с точки зрения когнитивной лингвистики, оперирует понятием макрособытия, понимая под этим «единицу ментального уровня, объединяющую 2 микрособытия, объективируемые первичной и вторичной предикацией». При этом одно из микрособытий акцентируется в зависимости от намерений говорящего [2: 6].
Таким образом, семантическая структура предложения, имеющего в своём составе отглагольные производные, представляет собой иерархически сложно организованную систему. Г. Клаус в этой связи замечает (перевод с немецкого наш – Л. Ю.):
Прежде всего в объективной действительности существуют предметы и признаки, то есть свойства предметов и отношения между предметами. Признаки предметов выража- ются предикатами первой степени, но признаки могут иметь собственные признаки. Таким образом, существуют свойства свойств, свойства отношений, отношения между свойствами, отношения между свойствами и отношениями и, наконец, отношения между отношениями. Эти признаки признаков выражаются предикатами предикатов или предикатами второй степени) [7: 284].
Предикативные отношения в предложениях, осложнённых СИ, представляют иерархию признаков, причём при выделении основного и вторичного признака в семантической структуре предложения вряд ли целесообразно привлекать исключительно формальную составляющую:
-
(1) Das Erscheinen des Buches erregte aber auch großes Aufsehen (O. Baum, Das Leben im Dunkeln).
-
(2) Sein Verschwinden <…> bot keine Schwierigkeit (G. Saiko, Der Mann im Schilf).
-
(3) <…> denn nach dem Straßenausbessern fühlte ich mich matt (M. Haushofer, Die Wand).
В высказывании (1) реализуются два события: 1: Das Buch erschien; 2: [das] erregte großes Aufsehen . При трактовке иерархии событий доминирующую роль отводят событию, реализованному в поверхностной сфере предложения грамматическим субъектом и предикатом, при этом предполагается, что событие, выраженное отглагольным именем, происходит одновременно с событием, реализованным грамматическим сказуемым. Подобная трактовка относительно СИ в немецком языке не всегда актуальна, как наглядно следует из примера (1). Первоначально появилась книга: das Erscheinen des Buches . Первичность данного события актуализируется синтаксической ролью СИ как грамматического субъекта, а также коммуникативным членением предложения. Информация о появлении книги является темой, то есть, уже известной информацией, а реакция на появление этой книги – ремой. Реакция не может предшествовать событию, в объективной действительности реакция также логически не может происходить параллельно с событием. Сходная ситуация наблюдается и в примере (2). Предшествование действия, выраженного СИ в высказывании (3), реализуется при помощи семантики предлога nach . При анализе глубинной сферы предложения, в котором одна из предикаций выражена СИ, напрашивается вывод, что, в отличие от глагольного инфинитива I, СИ не всегда выражает действие, происходящее одновременно с действием, выраженным сказуемым. Акцентированная процессуальность, заложенная в немецком СИ, доминирует над аспектуально нейтральным сказуемым.
Следует отметить, что на разных этапах истории немецкого языка событийный характер СИ проявляется не одинаково. Здесь целесообразно уточнить, что факт существования СИ в древневерхненемецкий период признаётся не всеми германистами. Наличие СИ в древневерхненемецком, очевидно, не вызывает сомнений у Г. Клооке [8], О. Бехагеля [3: 355-361], Я. Гримма [6: 528-529]. В. Вильманнс находит первые случаи субстантивации инфинитива только в средневерхненемецком периоде [12: 123]. Г. Пауль [9] и Ф. Блатц [4] не конкретизируют время возникновения явления, но в качестве иллюстрации приводят примеры только из литературы средневерхненемецкого периода. В данном исследовании СИ останется оперативным понятием и для описания более ранних исторических периодов, хотя, вероятно, более корректным было бы вести речь об инфинитивах с маркированной субстантивацией.
Опосредованная событийность СИ в данный период связана с неразвитой способностью реализовывать собственный актант и присоединять свои аргументы, так как, чем больше маркеров субстантивации имеет СИ, тем «объёмнее» репрезентируемое СИ событие. Логический субъект действия, выраженного СИ, либо совпадает с подлежащим, либо не актуализируется вовсе. Приведём примеры из древневерхненемецкого периода (перевод на современный немецкий здесь и далее наш – Ю.Л.):
-
(4) Thaz scêltan lîezun sie allaz frâm – Otfrid, Evangelienbuch (Das Schelten ließen sie beiseite).
-
(5) Ik gihorta dat seggen <...> - Hildebrandslied ( ich horte das Erzahlen ).
-
(6) <…> innana birut ir folle lichezennes inti unrehtes – Tatian ( innen seid ihr voll von Heucheln und Unrecht ).
-
(7) Dâ ist alles guotes übergenuht mit sichermo habenne – Notker, Himmel und Hölle ( Dann ist alles Gute mit sicherem Besitzen überreich ) .
Самым ранним способом вводить собственный актант СИ является притяжательное местоимение, единственный случай реализации логического субъекта через генитивный атрибут встретился у Отфрида (8):
-
(8) <…> joh sines blȗetes rinnan uns sîhurheit giwînnan – Otfrid, Evangelienbuch ( und das Rinnen seines Blutes verschafft uns Sicherheit).
-
(9) … fernim min hâren, daz uone hercen chome – Notker, Psalmen ( Vernimm mein Schreien, das vom Herzen kommt).
Примеры (8) и (9) отражают по два события, содержат две предикации и две пропозиции. Логические субъекты данных событий – не идентичны, грамматическое сказуемое отражает перспективу восприятия события, реализованного СИ.
В средневерхненемецкий период сочетаемостный потенциал СИ расширяется. Изысканность манер, придворная ритуальность в языковом плане реализуется в вычурных структурах и витиеватых формулировках. В лексическом плане для средневековой придворной литературы характерно значительное увеличение числа абстрактных понятий и как следствие СИ. Ключевыми художественными образами эпохи становятся субстантивации от эмоционально окрашенных глаголов , фиксирующие процессуальность переживаний лирического героя в имени:
-
(10) Vor was dâ grôzez weinen : Nu was dâ vroelîch lachen ; Vor bitter herzekrachen ; Nu wart manec vröudemachen – Heinrich von dem Türlin, Diu Crône (Voran war ein großes Weinen; Und dann war ein fröhliches Lachen; Zuerst ein bitteres Herzenskrachen; Nun hob sich viel Freudemachen).
Грамматический субъект в подобных предложениях предстаёт процессом коллективного действия, а логический субъект – не выделяемой составляющей представления о нём. Семантическое ядро высказывания (10) заключено в СИ, грамматическое сказуемое только манифестирует бытийность или начало ( nu wart ) данного события в прошлом. Высказывания, в которых глубинный предикат выражен СИ, широко представлены и в нововерхенемецком. В поверхностной структуре предложения появилось формальное es в функции подлежащего, а СИ перешел в разряд предикатива:
-
(11) Aber es ist schon ein Zittern in Hans (A. Döblin, Alexanderplatz).
-
(12) Es war ein Jagen nach Herzenslust gewesen (H. Fröhling, Liebe auf 12 Pfoten).
Типичной структурой для средневековой придворной литературы являются высказывания со сказуемым liep / leit /swaere sȋn, wol / wȇ tuon . СИ выступает в подобных предложениях в функции грамматического подлежащего. Семантика всего предложения сводится к выражению эмоционального отношения к событию, реализованному СИ. Логический субъект грамматического сказуемого оформлен личным местоимением в дательном падеже, а СИ – притяжательным:
-
(13) <…> iuwer komen zen Hiunen daz ist mir waerlîche leit – Nibelungenlied ( Euer
Kommen zu den Heunen ist mir wirklich leid ).
-
(14) dien gruozzen ist uns uil liep – Die Kaiserchronik eines Regensburger Geistlichen ( Dein Grüßen ist uns sehr lieb ).
-
(15) ir tuot leider wȇ al mȋn sprechen und mȋn singen – H. von Morunge ( leider tut ihr mein ganzes Sprechen und Singen weh ).
Введение актанта СИ через генетивный атрибут в средневерхненемецком ещё не является продуктивной моделью, подобные примеры представлены отдельными случаями:
-
(16) Gnâde ist ein inwonen und ein mitewonen der sêle in gote – Meister Eckhart, Predigten ( Gnade ist ein Innewohnen und ein Einwohnen der Seele im Gott ).
-
(17) der megede wartin was grôzlîch – König Rother ( Die Mägde beobachteten das auf-merksam ).
В средневерхненемецком впервые появляются композитные субстантивации, один из самых наглядных примеров событийного характера немецкого инфинитива. О. Бехагель приводит следующие средневерхненемецкие составные СИ из Вильгельма Австрийского: « bluotslifen, buochbetiuten, hendewinden, kriegbederben, lastersnallen » [3: 357]. Правда, затем в примечании подвергается сомнению принадлежность приводимых словоформ композитным субстантивациям, с оговоркой о возможном слитном написании инфинитива с зависимым прямым дополнением. Данные собственного исследования позволяют констатировать не единичность случаев словосложения инфинитива в средневерхненемецкий период: swert-umb-vâhen ( Frauenlob ), swertzücken ( Das Landrecht des Schwabenspiegels), herzekrachen, herzebrechen, vröudemachen, glitkrachen ( H. v. Türlin, diu Crône ); herzeliebejagen ( U. v. Türlin ), herzeleiden ( Tristan ), minneklagen ( Manessische Handschrift), minnekôsen (R. Merswin), almuosengeben ( B. v. Regensburg ), sun-wesen ( Eckhart, Trostbuch ).
Резюмируя вышесказанное, следует заметить, что СИ представляют интересный объект исследования с точки зрения семантики синтаксиса. Предложения, осложнённые СИ, наглядно демонстрируют различия между глубинным субъектом и предикатом и их поверхностными манифестациями. Событийный характер немецкого СИ позволяет ему участвовать в предикативных отношениях, характеризовать статус данного участия как латентный, имплицитный или неполный можно только при безоговорочном признании доминирования формальной структуры над семантикой высказывания. Диахроническая перспектива изучения позволяет проанализировать способы осмысления ситуаций и их репрезентации с помощью языковых средств в различные периоды истории немецкого языка.
Список литературы Субстантивированный инфинитив как событийное имя (синхронно-диахроническое рассмотрение)
- Николаева Т.Г. Критический анализ понятий "предикация" и "предикативность" в современной лингвистике // Известия ВГПУ. 2018. №4. С. 82-87.
- Фомина А.Ю. Конструкция с вторичной предикацией как средство репрезентации макрособытия: дис. … канд. филол. наук. Тамбов, 2007. 154 с.
- Behaghel O. Deutsche Syntax: eine geschichtliche Darstellung. Bd.2. Wortklassen und Wortformen. Adverbium. Verbum. Heidelberg: Winter, 1924. 740 S.
- Blatz F. Neuhochdeutsche Grammatik: mit Berucksichtigung der historischen Entwickelung der deutschen Sprache, Teil 2: Satzlehre. Hindelsheim - New-York: Georg Olms Verlag, 1970. 314 S.
- Blume K. Nominalisierte Infinitive: eine empirisch basierte Studie zum Deutschen. Tubingen: Niemeyer, 2004. 138 S.
- Grimm J. Deutsche Grammatik. Bd. 3. Berlin: Dummler: Gutersloh: Bertelsmann, 1890. 746 S.
- Klaus G. Moderne Logik: Abriss der formalin Logik. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaft, 1964. 452 S.
- Kloocke H. Der Gebrauch des substantivierten Infinitivs im Mittelhochdeutschen. Dissertation. Goppingen: Kummerle, 1974. 113 S.
- Paul H. Deutsche Grammatik in 5 Bd. Bd. 3, Teil IV: Syntax (erste Halfte). Halle (Saale): Niemeyer Verlag, 1954. 456S.
- Vitalish. L. Zum Problem der Pradikatssemantik im Deutschen // Вiсник Львив. ун-ту. Серiя iноземнi мови. 2014. Вип. 22. С. 102-112.
- Vogel P.M. Wortarten und Wortartenwechsel: Zu Konversion und verwandten Erscheinungen im Deutschen und in anderen Sprachen // Reihe: Studia Linguistica Germanica / hrsg. von S. Sonderegger, O. Reichmann. Berlin, New York: De Gruyter, 1996. 317 S.
- Willmanns W. Deutsche Grammatik: Gotisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch. Berlin: De Gruyter, 1930. 671 S.