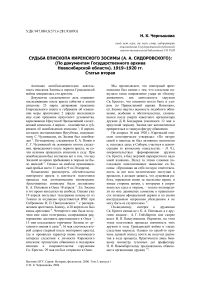Судьба епископа Киренского Зосимы (А. А. Сидоровского): (по документам государственного архива новосибирской области). 1919-1920 гг. Статья вторая
Автор: Чернышова Н.К.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736733
IDR: 14736733 | УДК: 947.084.3(571)+281.93(093)
Текст статьи Судьба епископа Киренского Зосимы (А. А. Сидоровского): (по документам государственного архива новосибирской области). 1919-1920 гг. Статья вторая
Статья вторая
Активная антибольшевистская деятельность епископа Зосимы в период Гражданской войны завершилась его арестом.
Документы следственного дела отражают последовавшие после ареста события в жизни епископа: 25 марта датировано прошение Епархиального совета в губревком об изменении меры пресечения; 2 апреля последовало еще одно прошение иркутского духовенства, адресованное Иркутской Чрезвычайной следственной комиссии, 4 апреля – ходатайство в губ-ревком об освобождении епископа 1 ; 8 апреля, согласно постановлению Иргубчека, подписанному С. Чудновским, еп. Зосима был освобожден 2 . По-видимому, следователи К. А. Попов и С. Г. Чудновский на основании итогов следствия, проведенного после первого ареста, не сочли нужным привлекать епископа к суду. При освобождении был составлен акт о том, что над Зосимой во время пребывания в тюрьме не было насилий 3 . Однако на свободе преосвященный пробыл всего 11 дней (с 9 по 20 апреля).
Попытаемся рассмотреть обстоятельства повторного ареста в контексте подготовки процесса над колчаковскими министрами. Арестованные министры были доставлены К. А. Поповым в Омск 18 апреля 4 . Еп. Зосима в это время находился на свободе. Однако уже 19 апреля поступает телеграмма почему-то из Томска за подписью представителя ВЧК при Сибревкоме И. П. Павлуновского 5 с распоряжением арестовать Зосиму, и 20 апреля он был вновь арестован 6 . Четвертого мая была получена еще одна телеграмма, содержавшая распоряжение доставить арестованного в Омск 7 ; 15 мая последовало отречение Зосимы от духовного звания и сана 8 ; 16 мая состоялся второй допрос (первый после повторного ареста), где и проявился характер вновь возникшего интереса следствия к личности Киренского епископа: прозвучали обвинения в поддержке японцев и покровительстве «дружинам Св. Креста». 29 мая он был отправлен в Омск.
Мы предполагаем, что повторный арест епископа был связан с тем, что следствие нащупало такое направление удара по «белому движению», как деятельность «дружин Св. Креста», что косвенно могло быть и ударом по Православной церкви. Возможно, еп. Зосима ощутил весомость подобного обвинения, особенно в обстоятельствах, сложившихся после смерти известного организатора дружин Д. В. Болдырева (скончался 12 мая в иркутской тюрьме). Зосима мог автоматически превратиться в главную фигуру обвинения.
На допросе 16 мая 1920 г. Киренский епископ категорически утверждал: «По натуре своей я никогда не был активным политиком и, находясь здесь в Сибири, участвуя в демонстрации (к японскому консульству. – Н. Ч. ), покровительствуя формированию дружин Св. Креста, я был жертвой перекрестного надо мной влияния». Вслед за этими словами последовало ошеломляющее заявление еп. Зо-симы: «Принимая на себя полную ответственность за все мои политические поступки в прошлом, я должен заявить, что душевная работа, пережитая мною за последнее время, и новые стороны жизни, с которыми я соприкоснулся здесь в тюрьме, – только подтвердили во мне давнишнее сомнение в правильности позиции официальной церкви и по своим выстраданным искренним убеждениям я не могу быть ее служителем» 9 .
По-видимому, интерес к дружинам Св. Креста связан не с К. А. Поповым, а с другими лицами – А. Г. Гойхбаргом или скорее всего И. П. Павлуновским. Вероятно, на этом этапе подготовки процесса значимость этих дружин в ходе Гражданской войны в глазах следствия выросла. Однако по какой-то причине данный эпизод почти не получил развития в ходе процесса. Практически лишь бывшему министру туземных дел профессору Н. Я. Новомбергскому предъявлялось обвине- ние в организации дружин 10
.
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 1 © Н. К. Чернышова, 2006
Процесс над министрами завершился 30 мая. Имя еп. Зосимы в опубликованных материалах процесса не упоминается. Мы не знаем обстоятельств освобождения еп. Зосимы (по решению ли суда, или при условии выполнения каких-то обязательств, или потому, что ход упомянутого процесса пошел по другому направлению). Документы свидетельствуют о том, что А. А. Сидоровский был освобожден 10–12 июня 1920 г. с условием ежедневной явки на регистрацию в Представительство ВЧК при Сибревкоме. После передачи дела в Сибюст он должен был являться на регистрацию туда 11 ∗ .
Завершая рассмотрение эпизода ареста и заключения еп. Зосимы, выскажем предположение: не предполагалось ли провести процесс над духовенством, аналогичный суду над министрами? В пользу данного предположения свидетельствуют, на наш взгляд, многочисленные аресты церковных иерархов, оказавшихся в Сибири в 1920 г.
Остановимся теперь подробнее на событии 15 мая, роковым образом определившем дальнейшую судьбу епископа Зосимы. Епископ написал заявление в губернскую чрезвычайную комиссию о сложении архиерейского звания и сана. На встрече с представителями Епархиального совета он подтвердил свое отречение 12 . Это событие даже в условиях бурной жизни времен Гражданской войны произвело впечатление на жителей города. О нем счел нужным упомянуть Н. С. Романов на страницах своей «Летописи…». В записи от 16 мая он приводит точную (соответствующую архивным документам) информацию об этом со ссылкой на газету «Власть труда» 13 .
Первая версия ответа на вопрос, почему он это сделал, принадлежит самому еп. Зосиме. В цитированном выше протоколе допроса от 16 мая он заявил, что это событие явилось закономерным итогом внутренней эволюции, разочарования в «официальной церкви». Вторая версия события принадлежит составителям «Житий сибирских святых» (Новосибирск, 1998). В книге высказано твердое убеждение в том, что еп. Зосима подвергался пыткам 14 . В следственном деле прямых подтверждений этому нет. Однако появление такого документа, как акт о том, что по отношению к нему не было совершено насилия, не указывает ли косвенным образом на то, что они как раз могли иметь место? Мы предполагаем, что отречение еп. Зосимы от сана и архиерейского
∗ Дата освобождения указана в анкете А. А. Си-доровского, но полностью прочитать ее не удается, так как на месте второй цифры – повреждение.
звания можно связать и с угрозой привлечения к процессу колчаковских министров.
Документы фондов СибОНО и Сибюста отразили попытку превращения бывшего епископа из «махрового контрреволюционера» в советского гражданина. Материалы СибОНО представляют недолгую историю службы А. А. Сидоровского в данном учреждении. Это удостоверение, копии приказов, списки сотрудников, собственноручные заявления А. А. Сидоровского, позволяющие установить время и место службы, должность, семейное положение. В списке сотрудников внешкольного отдела СибОНО рядом с фамилией бывшего епископа значится время поступления его на службу – 12 июля, затем имя его числится в списке сотрудников издательского подотдела, где указывается и время начала работы – 4 сентября 15 . Один из документов – служебная записка А. А. Сидоровского в СибОНО от 28 сентября – содержит сообщение о прибывших к нему в Омск тетке и сестре – Надежде Георгиевне Бологовской, вдове 40 лет 16 . Кроме данных документов, в делах СибОНО сохранилось несколько анкет и регистрационных карточек, заполненных А. А. Сидоровским в 1920 г. Они дают возможность уточнить некоторые детали биографии А. А. Сидоровского: сведения о его родных, членах семьи, гражданском состоянии, материальном положении и т. д.
Сохранились копии приказа СибОНО (№ 47 от 23 октября 1920 г.) об увольнении «секретаря литературно-издательского подотдела тов. Сидоровского за переходом на службу в Сибюст с 19 октября» 17 , а также его заявление о принятии на службу, адресованое заведующему Сибюстом тов. А. Г. Гойхбаргу, бывшему обвинителю на процессе колчаковских министров. «Желая работать по делу отделения церкви от государства, прошу предоставить мне место в соответствующем отделе» 18 , – писал бывший еп. Зосима.
Наконец, в документах фонда имеется заявление А. А. Сидоровского заведующему Сибнаробразом от 25 ноября, свидетельствующее о продолжающейся драме бывшего Киренского епископа. «Желая служить делу народного образования, прошу Вас, товарищ, – указано в заявлении, – назначить меня учителем в какую-либо сельскую школу. Просил бы откомандировать меня в Енисейский губнаробраз. Имею 12 лет [стажа] педагогической деятельности» 19 . Имеется и заявление аналогичного содержания от его жены.
В фонде Сибюста сохранилось личное дело А. А. Сидоровского. Имеющаяся в деле выписка из приказа № 49 Отдела юстиции Сиб- ревкома от 28 октября 1920 г. сообщает о назначении «тов. Александра Александровича Сидоровского» с 20 октября 1920 г. заведующим ликвидационным отделением Общего подотдела Сибюста 20 . Следующий документ – отпуск № 2438/ю от 28 октября 1920 г. в Омский губернский подотдел распределения рабочей силы – подчеркивает, что А. А. Сидо-ровский «является совершенно незаменимым работником по проведению декрета об отделении церкви от государства» 21.
Проведение в жизнь декрета об отделении церкви от государства входило в число задач Сибюста с момента его создания, т. е. с начала 1920 г., однако ликвидационное отделение было организовано не сразу. Первое упоминание о деятельности отделения встречается в отчете Сибюста за октябрь 1920 г. В отчете сообщается: «До настоящего времени Сибюст не побуждал места к более энергичному осуществлению ликвидации, считаясь с полным отсутствием подходящих работников… Сейчас в Сибюсте уже имеется ответственный руководитель ликвидационного отделения и вырабатывается подробный план проведения ликвидации» 22 . Таким образом, А. А. Сидо-ровский был, судя по всему, первым заведующим данного отделения.
Документы Сибюста содержат сведения о деятельности ликвидационного отделения, возглавляемого А. А. Сидоровским: это анкеты, либо написанные его рукой, либо имеющие следы правки, сделанной им, и план работ по проведению в жизнь Декрета об отделении церкви от государства по Омской губернии, а также переписка А. А. Сидоровского с бывшим уполномоченным Всероссийского объединения Совета религиозных общин и групп по Алтайской губернии 23. Хотя нет оснований утверждать, что имеющиеся в деле две анкеты вышли именно из-под пера бывшего Кирен-ского епископа, возможно, это либо «типовые» документы, либо составленные по образцам, разработанным в тех губерниях, где советская власть установилась раньше, мы все-таки остановимся на них подробнее, поскольку они отражают круг служебных занятий А. А. Сидоровского и те идеологические рамки, в которых он работал. Вопросы, предложенные в первой анкете (№ 2054/ю 17 ноября 1920 г.), были направлены на выяснение: 1) организационных моментов деятельности соответствующих отделений на местах; 2) состояния антирелигиозной работы; 3) положения местного духовенства (привлечено ли к трудовой повинности); имелся вопрос о том, получается ли журнал «Революция и церковь», при этом рекомендовалось делать перепечатки особенно интересных материалов (о вскрытии мощей, например). Большая группа вопросов относилась к выяснению имущественного положения церквей и монастырей; имелся вопрос, касающийся отношений населения к отделению церкви от государства, с просьбой сообщать случаи сочувственного и враждебного отношения масс. К анкете имеются примечания. Они составлены лицом, хорошо знакомым с состоянием церковных дел в Сибири во время гражданской войны. Анкета имеет незначительную правку, сделанную рукой А. А. Сидоровского, и подписана им, но являлся ли он автором текста примечаний? Так, первое примечание содержит требование Иркутскому губюсту представить сведения о Посольском монастыре, а именно привлечен ли он к ответственности за укрывательство белогвардейцев в 1920 г. 24 Примечание, обращенное Томскому губюсту, содержит предложение выяснить, были ли взяты при бегстве из Томска епископом Анатолием (Каменским) какие-либо ценности и, если были, то возвращены ли. У еп. Анатолия предлагалось запросить, где «серебряный гроб якобы с мощами митрополита Тобольского Иоанна, привезенный из Томска в Иркутск, и оказавшийся совершенно пустым, служились ли в прошлом году пред этим гробом во время пребывания его в Томске молебны и акафисты и кто принимал участие в этом [в целях эксплуатации религиозных чувств верующих]» 25. Енисейскому губюсту предлагалось сообщить, «прекращена ли направленная к эксплуатации масс на религиозной почве деятельность игумена Серапиона в Туруханском крае» 26. Примечания перечеркнуты. На документе, отпечатанном на пишущей машинке, кроме правки имеется запись еще одного лица: «Большая часть этих вопросов включена в анкету, направляемую в губюсты одновременно с извещением о съезде 25-го ноября 1920 г. Вопросы, относящиеся к отдельным губюстам, можно будет выяснить с каждым заведующим, приехавшим на съезд, в отдельности и дать указание, как в том или ином случае поступить 4.XI.20 г. Тер-сков (?)» 27.
Текст «Плана работ по проведению в жизнь Декрета об отделении церкви от государства по Омской губернии» 28 отпечатан на машинке, на нем имеется подпись заведующего ликвидационным подотделом А. А. Сидо-ровского. В текст документа внесена незначительная правка, сделанная, по-видимому, рукой другого лица. План включал следующие мероприятия: предварительное ознакомление с декретом, инструкциями и проектом договора, проверку домовых церквей, сбор сведений о молитвенных зданиях, об «имуществах церквей», о служителях культа персонально с указанием лет, образовательного ценза, составление точного списка домовых церквей, монастырей, подворий, приходских и беспри-ходных храмов с представлением подлинных описей церковного имущества, инвентарной книги и книги прибылых вещей, приходнорасходных книг за последние три года. По получении этих данных планировалось личное посещение молитвенных зданий для проверки имущества на местах. После получения всех сведений предполагалось заключать договоры об оставлении за отдельными группами верующих зданий и богослужебных предметов. Для выполнения намеченных мероприятий в плане предусматривалось создание комиссий: по ликвидации домовых церквей, для рассмотрения ценностей исторического и художественного характера [по охране памятников искусства и древностей]; для проверки описей, приходно-расходных книг «с целью выяснения церковного имущества» 29.
Документ предлагал проведение работ сопровождать распространением агитационной литературы. Инструкторы на местах должны были разъяснить, что «осуществление декрета советской власти об отделении церкви от государства не есть попрание прав церкви, а борьба с темной эксплуатацией невежественных народных масс на религиозной почве, каковая эксплуатация все ярче раскрывается на страницах журнала “Революция и церковь”. Для верующих же масс является полная возможность в жизни церковной осуществить заветы Христа о церкви как живом теле, сознательном обществе верующих, вступить на путь борьбы с засильем клерикалов, иногда даже не верующих в то, чему они служат, нередко пьянствующих, невежественных паразитов общества… явится возможность реагировать во все стороны культурной жизни человечества» 30 .
Мы не знаем, какими мотивами руководствовался бывший епископ Киренский, осуществляя проведение в жизнь декрета: безвыходность ли положения привела его на это место или у него были какие-то искренние убеждения, позволявшие ему сотрудничать с властью в этом деле. Для того, однако, чтобы подчеркнуть, что позиция А. А. Сидоровского не была резким исключением, приведем два примера. В газете «Советская Сибирь» от 5 ноября – в то время, когда еп. Зосима служил в Сибюсте, – была опубликована заметка «Дело архиереев», сообщавшая о находившихся в омском доме лишения свободы епископах Уфимском Андрее (Ухтомском) и Златоустов- ском Николае (Ипатове) и архиепископе Симбирском Вениамине (Муратовском). В заметке, в частности, сообщалось о том, что еп. Уфимский «раскаивается в прежних нападках на советскую власть за ее декрет об отделении церкви от государства. Он, наоборот, заявляет, что он приветствует § 13 Конституции советской об отделении церкви от государства, что он всегда стремился к такой свободе церкви и что он поэтому, считая единственно правильным такое решение вопроса, готов содействовать cоветской власти в ее работе по отделению церкви от государства» 31. Другой пример готовности к такому сотрудничеству содержится в деле Сибюста о деятельности ликвидационного подотдела, документы которого цитировались выше. В нем имеется анкета, заполненная епископом Енисейским Назарием (Николай Иванович Андреев, с 1922 г. участвовал в обновленческом движении). Еп. Назарий писал: «Отделение церкви от государства и школы от церкви было желательной мечтой при условии сохранения за церковью прав на подлинную свободу существования, а за верующими возможности получения христианского воспитания в той обстановке, какую они найдут для себя примечательной и удобной» 32.
Подчеркнем, что срок службы Александра Александровича в Сибюсте был крайне непродолжителен. Приказом № 57 отдела юстиции Сибревкома от 25 ноября 1920 г. тов. А. А. и Н. Г. Сидоровские увольнялись, согласно прошению, из Сибюста и откомандировывались в распоряжение Сибнаробра-за 33 . Обстоятельства увольнения бывшего епископа Зосимы (имеется в виду просьба уехать в глухой район Енисейской губернии учителем) свидетельствуют о желании избавиться от этой должности. Очевидно, что согласие А. А. Сидоровского на работу в Сибюсте не было вполне добровольным. С 1922 г. начинается «обновленческий» этап в его жизни.
Остановимся теперь на материалах личного дела жены А. А. Сидоровского – Надежды Георгиевны 34. В деле имеются заявление о приеме ее на службу в Сибюст, отношение в Рабкрин, анкета и письмо заведующему отделом юстиции К. А. Попову скорее личного, чем официального характера, а также приказ об увольнении ее с откомандированием в распоряжение Сибнаробраза. В документах дела к фамилии Сидоровская в скобках добавляется Морозова и Бологовская. Биография этой женщины по документам дела выглядит следующим образом. В 1920 г. ей было 42 года, она имела, как указано в заявлении, богословское и юридическое образование (III курс юридического факультета Московского университета и высшие богословские курсы в Москве). По профессии она считала себя учительницей. В анкете упомянуто, что до февраля 1917 г. жена А. А. Сидоровского отбывала каторгу, полученную по 102 ст. (20 лет), после амнистии 1917 г. была тяжело больна, с 1918 г. работала учительницей в Минусинском уезде Енисейской губернии и с марта 1920 г. по июнь в Иркутске. Отвечая на вопрос о партийной принадлежности, Надежда Георгиевна написала в анкете, что не состояла в коммунистической партии, но с 1899 г. была социал-де-мократкой, а с 1917 г. – анархисткой-коммунисткой 35 . В анкете отмечено также, что в январе 1920 г. она была сестрой милосердия. С 30 октября 1920 г. Надежда Георгиевна служила инструктором ликвидационного отдела Общего подотдела Сибюста 36. Документы личного дела жены бывшего епископа Зосимы ничего не сообщают об истории их знакомства и брака.
Письмо Надежды Георгиевны Сидоровской К. А. Попову частично приоткрывает душевное состояние супругов, ставит и ряд новых вопросов. Письмо не датировано автором, но, судя по упоминаемым событиям, относится к ноябрю 1920 г. Оно написано тяжело больной, по-видимому, женщиной. Надежда Георгиевна сообщает адресату, что она, просидев 20 лет в тюрьме, «потеряла всякую способность к работе усидчивой». Пребывание в колчаковской тюрьме также оставило свои тяжкие следы: ударом приклада у нее была повреждена затылочная часть и за три года свободы она так и не оправилась 37 .
Весьма важной для нас является характеристика мужа, содержащаяся в письме. Вот что пишет Надежда Георгиевна о муже: «…ему тоже пришлось [многое] пережить и до ареста, и после. Человек крайне нервный, раздражительный, человек, который до сих пор не чувствует за собой почвы. Полное незнакомство с новым строем тормозит его работу. Ведь приходится учиться, и читать, и работать, а ведь лета ушли. Ему хочется работать, и есть у него инициатива, и больно ему, что столько лет прошли бесплодно и приходится ему учиться снова. Жизнь надорвана. Жизнь в деревне вернет нас к жизни» 38 .
В данной работе мы не пытались пересмотреть оценку поступков Зосимы, которая заключается в решении Св. Синода, отвергшего его покаяние и просьбу о восстановлении в монашестве и сане. Круг источников, которые мы использовали, не позволяет ответить и на вопрос о том, не было ли во взглядах епископа до революции 1917 г. оснований, позволивших ему примкнуть к обновленчеству. Однако подчеркнем, что в активной позиции еп. Зо-симы – в поступках и выступлениях периода Гражданской войны – не содержится каких-либо колебаний в необходимости защиты Родины от большевиков и сомнений в вере, хотя уже во время допроса он всячески пытался умалить свои «заслуги» и даже объяснял их «перекрестным на него влиянием». Сокрушительный крах белого движения, пребывание в одиночном заключении после второго ареста, явная угроза гибели в условиях торжества «революционной законности» – все это завершилось духовным кризисом, из которого он не смог выйти уже никогда.
Материал поступил в редколлегию 06.12.2005
-
1 ГАНО . Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 226. Л. 72, 77–77 об., 81–81 об.
-
2 Там же . Л. 83.
-
3 Там же . Л. 85.
-
4 Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920: Документы / Отв. ред. В. И. Шишкин. М., 2003. С. 20–21.
-
5 ГАНО . Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 226. Л. 86.
-
6 Там же . Л. 87.
-
7 Там же . Л. 146.
-
8 Там же . Л. 138.
-
9 Там же . Л. 140 об.
-
10 Процесс над колчаковскими министрами. С. 19, 89–91, 363.
-
11 ГАНО . Ф. Р-467. Оп. 1. Д. 15. Л. 257;
Ф. Р-1053. Оп. 2. Д. 6. Л. 55 об.
-
12 ГАНО . Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 226. Л. 144–144 об.
-
13 Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг. Иркутск, 1994. С. 404.
-
14 Жития сибирских святых. Сибирский патерик. Новосибирск, 1998. С. 98.
-
15 ГАНО . Ф. Р-1053. Оп. 2. Д. 7. Л. 131 об., 132, 155.
-
16 Там же . Д. 12. Л. 93.
-
17 Там же . Оп. 1. Д. 24. Л. 14.
-
18 Там же . Оп. 2. Д. 4. Л. 21.
-
19 Там же . Д. 7. Л. 169.
-
20 ГАНО . Ф. Р-467. Оп. 1. Д. 167. Л. 1.
-
21 Там же . Л. 2–2 об.
-
22 Там же . Д. 44. Л. 21 об.
-
23 Там же . Д. 5.
-
24 Там же . Л. 11–11 об.
-
25 Там же . Л. 11 об.
-
26 Там же.
-
27 Там же . Л. 12.
-
28 Там же . Л. 15.
-
29 Там же.
-
30 Там же.
-
31 Сов. Сибирь . 1920. 5 нояб.
-
32 ГАНО . Ф. Р-467. Оп. 1. Д. 5. Л. 23–23 об.
-
33 Там же . Д. 167. Л. 9.
-
34 Там же . Д. 166.
-
35 Там же . Л. 4–4 об.
-
36 Там же . Л. 1.
-
37 Там же . Л. 7.
-
38 Там же.