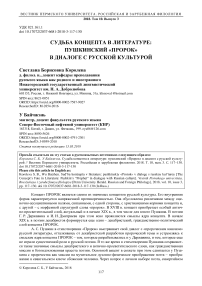Судьба концепта в литературе: пушкинский "Пророк" в диалоге с русской культурой
Автор: Королева Светлана Борисовна, У Байчжэнь
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Концепт ПРОРОК является одним из значимых концептов русской культуры. Его внутренняя форма характеризуется напряженной противоречивостью. Она обусловлена различиями между оценочно-ассоциативными полями, связанными, с одной стороны, с христианскими корнями концепта и, с другой - с морфемной структурой слова «пророк». В XVIII в. концепт приобретает особый антично-просветительский слой, актуальный и в начале XIX в., в том числе для юного Пушкина. В поэзии Г. Р. Державина и И. И. Дмитриева при этом ясно проявляются смыслы ядра концепта. В начале XIX в. в поэзии декабристов формируется еще один - декабристский, гражданственно-политический слой концепта ПРОРОК. А. С. Пушкин в стихотворении «Пророк» выстраивает свой диалог с «пророческим каноном» русской литературы, отталкиваясь от декабристской разработки пророческой темы и устремляясь к смыслам ядра концепта ПРОРОК - тем, которые разрабатывались и у Державина, и тем, которые еще не играли существенной роли в русской поэзии. В то же время в стихотворении Пушкина сохраняются такие значимые смыслы декабристского и антично-просветительского слоев, как гражданственная миссия и боговдохновенная красота поэзии. Основной акцент в сюжете при этом сдвигается у Пушкина с пророчества как миссии на мучительное духовно-физическое преображение поэта - преображение в евангельском ключе обожения человека. Через вопрос о личном выборе поэта, синергийном акте его призвания Богом, мученичестве духовно-телесного преображения пушкинский «Пророк» сближает два разнонаправленных смысловых импульса, заложенных во внутренней форме концепта ПРОРОК, и освещает призвание поэта как очищение-призывание людей к Вечности через боговдох-новенную поэзию.
Общекультурный концепт, концепт в литературе, пророк, образ, русская поэзия, декабристы, пушкин
Короткий адрес: https://sciup.org/147226911
IDR: 147226911 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-3-117-130
Текст научной статьи Судьба концепта в литературе: пушкинский "Пророк" в диалоге с русской культурой
ПРОРОК – один из значимых концептов русской культуры, русской ментальности. Имея длительную историю существования, концепт ПРОРОК в разные эпохи обрастал различными интерпретативными слоями, и их смыслы были связаны с определенным кругом авторов, идей, образов, а опосредованно – и исторических событий. Круг задач настоящего исследования очерчивается попыткой установить внутреннюю форму концепта [Степанов 2001: 48] и, опираясь на нее, определить основные особенности содержания его актуального слоя в стихотворении А. С. Пушкина «Пророк». Иными словами, цель работы состоит в выявлении основных ценностных, смысловых, образных особенностей содержания концепта [Карасик 2001] ПРОРОК в «Пророке» А. С. Пушкина в сопоставлении с его внутренней формой, ядром и актуальным слоем в произведениях поэтов пушкинского круга.
Анализ концепта ПРОРОК в стихотворении Пушкина в контексте актуального слоя концепта в произведениях поэтов пушкинской поры опирается на методику, предложенную В. Г. Зусманом – в частности, на следующее его положение: «Концепты в художественной литературе возникают как результат взаимодействия внутренней формы слова-произведения со “словесными и общекультурными стереотипами”» [Зусман 2001: 21].
Внутренняя форма концепта, по мысли Ю.С. Степанова, связана с «внешней словесной формой» и определяется этимологическим значением слова, вербализующего концепт [Степанов 1997: 43]. Особенностью внутренней формы концепта ПРОРОК является противоречие между этимологией слова «пророк» и его словообразованием. Русское слово появилось в результате кальки с греческого προφήτης [Фасмер 1987: 377]. Этимология указывает на православный контекст вхождения слова в русскую культуру, на общность представления о пророке как о «глашатае воли Божией» в русском и греческом православии [Вихлянцев 2010: 379]. Особое внимание следует обратить на то, что за библейскими пророками был закреплен круг определенных сюжетов – об абсолютном послушании Господу (Авраам), о водительстве, наставлении народа (Моисей), о чудотворении (Илия, Исайя и другие), об обличении неправедности правите- лей, греховности народа (Елисей, Иезекииль и другие), о прорицании будущего.
Имена библейских пророков, сюжеты, православные ценностные ориентиры сформировали ядро – первичное смысловое поле концепта ПРОРОК. Оно подразумевало опору на категорию сакрального и включало представление об удаленности пророка от мира обыденной человеческой жизни, приобщенность к его божественной Истине.
Вместе с тем словообразовательная модель слова «пророк» отсылает нас к другому полю значений: слово составлено из «префикса про в значении “заранее, перед”» и корня рок, означающего “тот, кто изрекает”» [Крылов 2005: 325]. Исходя из морфемного состава слова, можно думать, что «пророк» – это человек, который просто способен предрекать будущее. Словообразовательная модель подталкивает к снижению библейского ассоциативного поля концепта, к десакрализации образа пророка. На выраженность этого сниженного поля значений в концепте ПРОРОК в его бытовании в народной культуре первой половины XIX в. указывает статья «прорекать» в «Толковом словаре» В. И. Даля: здесь значению слова «пророк» даются следующие разъяснения: «озаренный Богом провозвестник»; «кому дан свыше дар провидения, или прямой дар бессознательного, но верного прорицания» [Даль 1978–1980: 505]. Приводятся соответствующие глаголы: прорекать, пророчить, предсказывать, предвещать, провидеть и разоблачать будущность. На снижение статуса «пророка» указывают и проводимые Далем пословицы: «И не пророк, да отгадчик»; «Не всякому пророку верь»; «Нет пророка без порока» и – даже «Меж слепых и кривой пророк».
Таким образом, во внутренней форме и связанном с ней «ядре» концепта наблюдается борьба двух смысловых полей: комплекса, сформированного кругом библейских сюжетов о пророках в контексте ценностных установок православной культуры, и комплекса, подразумевающего «простой», не связанный с категориями сакрального и Вечного дар предвидения, предрекания будущего. Напряжение между этими смысловыми полями внутри ядра концепта ПРОРОК несло в себе возможность его динамичного развития.
Пушкинская эпоха не была абсолютно новаторской в отношении развития смысловой структуры концепта ПРОРОК. Уже в знаменитой оде Г. Р. Державина «Фелица» (1782) находим такие два использования слова «пророк», которые свидетельствуют об усложнении смысловой структуры концепта в русской литературе и культуре. В оде изображается просьба поэта, обращенная к «великому пророку»: «Прошу великого пророка, / Да праха ног твоих коснусь, / Да слов твоих сладчайших тока / И лицезренья наслажусь!» [Державин 1987: 40]. Под «великим пророком», конечно, подразумевается пророк Мохаммед, что вполне органично вписывается в поэтическое обыгрывание Державиным своего татарского происхождения (ср.: «Видение мурзы», «Послание Мурзы Багрима к царевне Доброславе»). Называние «пророком» Мохаммеда включает в поле концепта ПРОРОК в произведении Державина как большой образно-смысловой ряд, связанный с мусульманством, так и намек на переосмысление образа самого Христа, намек на возможность его уравнивания со многими в «статусе» пророка (как это есть в мусульманстве).
Второе употребление слова «пророк» в оде Державина отсылает нас к традиционному представлению о пророке как «гласе Божьем»: «Ты здраво о заслугах мыслишь, / Достойным воздаешь ты честь, / Пророком ты того не числишь, / Кто только рифмы может плесть <…>» [там же: 37]. Расширение поля концепта в державинской оде происходит за счет прямого ассоциирования образа пророка с образом поэта. У Державина оно построено по принципу отрицания: стихотворение утверждает справедливость суждения Фелицы о том, что не всякий, умеющий «рифмы плесть», является пророком. Однако не отрицается сама возможность того, что поэт может быть пророком. Более того, суждение Фелицы в контексте исключительности ее образа подразумевает, что другие часто ложно любого поэта считают пророком.
Действительно, в просветительской поэзии XVIII в. суждение о поэте как о пророке было общим местом. «Пророчество» понималось, как правило, не в библейском контексте, но в связи с античной (эллинистической, а затем имперской римской) традицией восприятия поэта как «пророка муз и Аполлона» – «вдохновенного пророка, посредника между обществом и божеством» [Гаспаров 1985: 328]. Вхождение в общекультурный концепт ПРОРОК нового ассоциативного поля, укорененного в античной традиции поклонения красоте и жизненной силе, было связано с влиянием на русскую культуру XVIII в. европейского классицизма и Просвещения. Это новое поле вмещало в себя не только античные идеалы боговдохновенной поэзии, «цивилизующего» посредничества между богами и людьми, но и (через ассоциацию пророка с поэтом-пиитом) такие специфические просветительские ценности, как общественная польза и гражданственное служение [Гайворонская 2012].
Свою жизненность это новое античнопросветительское поле концепта сохранило и в начале XIX в. Свидетельство этому находим, в частности, в строках о Ломоносове одного из «Посланий» К. Н. Батюшкова от 1815 г., – произведения, которое А. С. Пушкин прекрасно знал и с которым вел поэтическую полемику в стихотворении «Отрок» [Григорьева 1981; Кибальник 1990; Мальчукова 1994]:
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный, Сей огнь зиждительный, дар бога драгоценный, От юности в душе небесного залог,
Которым Фебов жрец исполнен, как пророк.
[Батюшков 1977: 283]
Антично-просветительское поле концепта ПРОРОК отчасти выстраивает и образность стихотворения В. Г. Кюхельбекера «Жребий поэта» (1824): здесь поэт назван «пророком радостных богов», «снедаемым огнем священным», «неистовым» жаром поэтической страсти [Кюхельбекер 1989: 73–74].
На то, что в поэтическом сознании А. С. Пушкина освоение общекультурного концепта ПРОРОК происходит с первичной опорой именно на это антично-просветительское поле, указывает сам поэт в послании Дельвигу 1830 г.1 Здесь находим и «Феба», и образ человека-игрушки в руках богов, и отсылку к традициям державинской поэзии:
Мы рождены, мой брат названый,
Под одинаковой звездой.
Киприда, Феб и Вакх румяный
Играли нашею судьбой.
Явилися мы рано оба
На ипподром, а не на торг,
Вблизи державинского гроба, И шумный встретил нас восторг.
[Пушкин 1977: 185]
Было бы, однако, неверным упрощением описывать общее бытование концепта ПРОРОК в русской литературе XVIII в. – начала XIX в. только в плане его антично-просветительского поля. Христианские, ветхозаветные смыслы его ядра продолжают воздействовать на образность русской поэзии. Неслучайно в творчестве И. И. Дмитриева и Г. Р. Державина явлено представление о вдохновенности истинной поэзии Святым Духом. Державин в целом ряде стихотворений («На тщету земной славы», 1795; «Бессмертие души», 1797; «Издателю моих песней»,
1808 и др.) говорит от имени поэта, наделенного Духом Святым не просто поэтическим даром, но даром пророчествовать истину (подробнее об этом см.: [Ларкович 2009]):
Язык мой истину вещает,
Премудрость сердце говорит;
Что свыше Дух Святый внушает,
Моя то лира днесь звучит.
[Державин 1831–1833: 55]
Схожим образом в «Духовной песне…» (1795) И. И. Дмитриева, поэтически перерабатывающей 48-й псалом ветхозаветного пророка и царя Давида, создается образ поэта, чей дух просвещен и возвышен Духом Святым:
Высоку песнь взыграет лира,
Святый меня восхитил дух:
Я возношуся, я пылаю,
Я в горних небесах читаю
И важны истины пою!
[Дмитриев 1967]
Сохраняются и христианские смыслы обличения человеческих пороков, несправедливости, страстей; наставничества и призывания к милосердию и праведности. Упомянутое выше стихотворение Дмитриева заканчивается призывом:
Злодеи! бойтесь, трепещите!
А вы, гонимы, не ропщите!
Есть бог, есть вечность обоим.
Державинское «На тщету земной славы» оканчивается красноречивым наставлением-предупреждением власть имущим:
На вышней степени мы власти
Свою теряем высоту:
В порочные упадший страсти
Подобен человек скоту.
[Державин 1831–1833: 57]
Таким образом, к началу XIX в. в русской культуре формируется и активно разрабатывается антично-просветительский слой концепта ПРОРОК вокруг образа поэта-пророка с акцентами на идеалах возвышенной красоты и гражданственного служения поэзии. В художественной литературе этот новый слой взаимодействует с христиански ориентированным полем ядра концепта, в связи с чем поэт предстает не только в образе «жреца муз и Аполлона», но и в образе певца, вдохновленного Духом Святым на возвещение истины, духовное наставничество и обличение пороков.
В творчестве поэтов-декабристов формируется новое смысловое поле общекультурного концепта ПРОРОК. В целом ряде декабристских стихотворений Ф. Н. Глинки и В. К. Кюхель- бекера начала 20-х гг. прослеживается единый сюжет отталкивания от комплекса античнопросветительских смыслов в изображении поэта и обращения к ветхозаветным сюжетам в русле нового героико-политического осмысления образа поэта-пророка. Обобщая, можно утверждать, что в декабристской поэзии создается новое героико-политическое поле общекультурного концепта ПРОРОК.
Стихотворения Ф. Н. Глинки о пророчестве опираются (как и стихотворение Пушкина) на библейский сюжет о призвании Богом Исайи. На первый взгляд их образность, стилистика, оценочно-смысловая структура выстроена вполне в соответствии с библейским текстом. Однако прямая отсылка к казни декабристов («Твоих зарезали Пророков») в хронологически последнем стихотворении этого ряда – «Илия – Богу» (1826 или 1827) позволяет выстроить более точную с исторической, биографической точки зрения перспективу. Слово «пророк» в творчестве поэта-декабриста Ф. Н. Глинки наполняется новым содержанием, через которое в концепт ПРОРОК входит декабристский оценочносмысловой и образный ряд. «Мы», «я», зарезанные «Пророки» в стихотворении «Илия – Богу» – это, очевидно, не столько образы поэта, осознающего свою «гражданскую миссию» обличения властителей и готового на личный подвиг во имя правды [Сурат 1995: 237], сколько образы идеального декабриста – человека высокой нравственности, с живой душой и совестью, трагически переживающего социальную несправедливость и готового бороться за правду. Здесь «пророк» оказывается не одним, высшим избранником Бога, обличающим и прорицающим, но одним из немногочисленного круга «пророков» – дворян-декабристов:
Мы ждём и не дождёмся сроков
Сей бедственной с нечестьем при:
Твоих зарезали Пророков,
Твои разбили алтари! <…> И я теперь жилец пустыни, Я плачу пред тобой один!
[Глинка 1957: 253]
Именно в этом ключе – как обобщенный внутренний образ декабриста – «пророк России» представлен в так называемом «стихотворении о повешенных» – по-видимому, самой ранней версии пушкинского «Пророка», написанной в состоянии «великой скорби» после казни пяти восставших: «Восстань, восстань, пророк России, / В позорны ризы облекись, / Иди, и с вервием на выи / К убийце грозному явись» [Пушкин 1948: 461].
В самом раннем стихотворении ряда «пророческих» произведений Ф. Н. Глинки – «Призвании Исайи» (1822), написанном еще в период формирования декабристского Северного общества, Господь-Егова, обращаясь к Исайе, называет то, с чем ему предстоит бороться, о чем ему предстоит пророчить: скрытый «покровами» «порок» в народе, коварство душ и черствость сердец, «поддел и ложь», несправедливость «сильных и князей», – и это последнее оказывается самым страшным из пороков. Слова Бога к Исайе становятся обращением ко всем «сильным»:
Омой корыстную десницу,
Лукавство вырви из души, Будь нищим друг, спасай вдовицу!
Тогда, без жертв своих, спеши,
Как добрый сын, ко мне пред очи:
Я все грехи твои стерплю <…>
[Глинка 1957: 152]
Пророк в стихотворении не только обличает: он наблюдает изменение в настроении («Я зрю мятеж и страх в умах»), признаки близости Божьего гнева («Промчался с криком коршун жадный, / Послышав гибель на полях») и пророчит о «жнецах», которых «Бог пошлёт» для «жатвы», – тех, кто восстанет 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади против крепостного права и самодержавия.
Образ поэта-пророка в поле слияния античных и библейских ассоциаций, в русле романтических образов страсти и мятежности и противостояний «поэт – толпа» и «поэт – судьба», разрабатывается в творчестве В. К. Кюхельбекера. В стихотворении «Участь поэтов» (1823) поэты-пророки, награжденные «пламенем дарований», гонимы «презренной толпой» и «чёрной судьбой»; их жизненный путь – путь «мук» и «печалей», и это сближает их образ с образом Христа («Вам нестерпим кровавый блеск венца, / Который на чело певца / Кладёт рука камен <…>») [Кюхельбекер 1986: 134]. В стихотворении «Проклятие» (1822) ясно обозначена не только святость, божественность поэтического дара, но и необходимо обличительная его направленность:
Предаст злодея поруганью
Святый, неистовый пророк <…> [Кюхельбекер 1989: 67]
Образность стихотворения «Жребий поэта» (1824) представляет собой сплав античных образов с библейскими («И на главе певца считают / И каждый сохраняют влас; Гремят его хвалы и клятвы / Для запада позднейших дней. / Он сеет их для верной жатвы».) [Кюхельбекер 1989: 74], а также с идеями-образами, свойственными предромантизму и романтизму (буря, гроза, борьба, судьба, неистовство, страсти). Этот сплав соответствует специфике создаваемого образа поэта, снедаемого огнем поэзии и страсти. Он от века наделен Чьей-то незнаемой, но всемогущей властью «всесильным гласом» «вещих песней», направленных против «извергов и змей» и равно потрясающих мир людей и мир богов.
«Пророчество» Кюхельбекера (1822), как и «Призвание Исайи» Ф. Глинки, отсылает к ветхозаветному сюжету избрания поэта Богом к пророчеству. Античная образность здесь полностью уступает место библейской, и поэт-пророк, призванный возвестить «глас Господень» о неправедности «Сильных», о «Свободе» народа, о «коварстве» и грядущем падении «Альбиона», встает в один ряд с теми, чьими руками творилась воля Божья на протяжении всей истории человечества: с турками-османами, разрушившими Византийскую империю, с Суворовым, усмиряющим и побеждающим османцев. На призыв Господа поэт ответствует со ссылкой на Евангелие:
А я – и в ссылке, и в темнице
Глагол Господень возвещу: <…>
Тобой сочтен мой каждый влас!
[там же: 67]
Как известно, Пушкин не только был знаком с «Пророчеством» Кюхельбекера, но и жестко критиковал его в письме к брату – следовательно, внимательно читал [Тынянов 1934]. По мнению С. А. Кибальника, именно «Пророчество» Кюхельбекера является «ближайшим претекстом» пушкинского «Пророка» [Кибальник 1998]. Как и в других декабристских стихотворениях о поэте-пророке, в этом тексте дар поэзии – дар «возвещания» истины – представляется «в готовом виде»: поэт изначально одарен Богом «пламенем» и «силой» «воздвигать народы», прямое призвание его Господом к пророчеству необходимо потому, что он, будучи в состоянии духовного «леностного» сна, божественную истину замалчивает (см. об этом: [Гуревич 1967: 184; Жаткин 2008]). Заметим, что слегка ожившие в этом произведении Кюхельбекера христианские, евангелические смыслы концепта ПРОРОК будут ярко актуализованы в сюжете пушкинского «Пророка».
Особо следует сказать о стихотворении 1826 г., в котором не кто иной, как сам Пушкин, назван «пророком». Письмо Языкова, содержащее текст «А. С. Пушкину», по всей видимости, было получено адресатом несколько ранее даты написания Пушкиным своего «Пророка»; обращение к нему как к «пророку изящного» не могло не привлечь его внимания [Пушкин 1977(II): 304].
Образная система стихотворения Языкова выстраивается вокруг воспевания поэтической красоты как высшей ценности – в духе античнопросветительского поля концепта ПРОРОК. Для лирического героя, однако, красота поэзии до- стижима только как результат «вольного» дружеского общения. Через обозначение тем этого общения – русская история, величие России («И славой прадедов горжусь») и необходимость социально-политических реформ («Зовём свободу в нашу Русь») – текст вовлекается в круг декабристкой поэзии. Творчество – творение дружбы, общения, поэзии – оказывается отблеском небесного огня («И я на вече, я на небе!») только тогда, когда оно преобразует действительность [Языков 1937: 291–292]. В воспевании «свободного, радостного и гордого» союза, рождающего «сладостное песнопенье» и «смелые вдохновенные дела», стихотворение перекликается с известным стихотворением Кюхельбекера «Поэты» – посланием Пушкину, Дельвигу, Баратынскому.
Таким образом, в творчестве поэтов-декабристов – ближайшего круга поэтов пушкинской поры – создается новое героико-политическое поле концепта ПРОРОК с опорным образом поэта-пророка, пророка-декабриста, обличающего сильных мира сего в неправедности социальнополитического устройства государства, в лишении своих подданных свободы. Ветхозаветная образность в декабристском слое концепта соседствует с античной, выявляя принципиальную условность нанизываемых образов-ассоциаций, призванных, так же как высокая архаичная лексика и весь одический строй произведений, передать мысль о высоком предназначении поэта в соответствующей «высокой» форме. Высшей ценностью пророчества в этом слое концепта оказывается такое «боговдохновенное» обличение греха, которое направлено на установление социально-политической справедливости. В ассоциативное поле декабристcкого слоя концепта ПРОРОК входит и романтическое противостояние «поэт – толпа», и романтический образ судьбы-рока, и ощущение движения времени, движения человеческой истории, и лирическая автобиографичность, и «мятежность» образов героев, столь характерные для русского (и в целом европейского) романтизма.
«Пророк» А. С. Пушкина был написан в июле 1826 г. и опубликован в 1828 г. и, в силу этих хронологических рамок и всего исторического и биографического контекста, глубоко связан с разработкой смыслового поля концепта ПРОРОК в творчестве Ф. Н. Глинки, В. К. Кюхельбекера, Н. М. Языкова. По свидетельству исследователей-пушкинистов, многие из этих произведений были известны Пушкину; более того, на некоторые поэт ориентировался при написании чернового варианта своего «Пророка», с текстом же «Пророчества» Кюхельбекера у Пушкина «есть прямые переклички» [Сурат 1995: 237]. Значителен и факт непосредственной связи между начальным этапом создания стихотворения и казнью декабристов [Березкина 1999].
В очерченном нами декабристском контексте и, шире, в контексте истории развития концепта ПРОРОК в русской культуре конца XVIII – начала XIX в. очевидно, что пушкинский текст своей опорой имеет смысловой стержень, заданный ядром концепта, и образы поэтов-пророков, вдохновленных Духом Святым на служение, по-разному представленных как в поэзии Державина и Дмитриева, так и в поэзии Глинки и Кюхельбекера.
В то же время стихотворение Пушкина (в его окончательной редакции) дает новый для русской поэзии сюжет о поэте-пророке. В нем необычно для сложившегося «пророческого канона» определена причина избрания героя: это его собственная «духовная жажда», неутолимая без Бога, в «пустыне мрачной» человеческого мира [Пушкин 1948]. Необычно обозначена ситуация избрания: это ситуация «перепутья», т. е. стремления и, одновременно, сомнения. Это архетипическая ситуация вопроса-выбора, на онтологическую глубину которой поэт только намекает. Явление «шестикрылого серафима» (ситуация, заимствованная из видения пророка Исайи), очевидно, становится ответом Господа поэту, и в этом смысле призвание героя к служению есть призвание христианское, в известном смысле синергийное, евангельское, а не ветхозаветное. На лексическом уровне идея синергийности – со-работничества, со-направленности действий человека и Господа, человека и вышних сил – выражена в повторе анафорического союза «и». На уровне грамматическом – в параллелизме возвратных глаголов «влачился» (о поэте) и «явился» (об ангеле). В евангельском ключе осуществлен в тексте Пушкина и перенос действия (по сравнению с опорным ветхозаветным текстом) из плоскости духовного видения в плоскость духовно-физической реальности: в христианстве ветхозаветная трансцедентная реальность Вечности преображается в иммантентную человеку реальность в момент его глубокого молитвенного обращения к Богу2.
Этот поворот пророческого сюжета в стихотворении Пушкина «Пророк» – поворот православный – обычно ускользает от внимания исследователей. При этом воздействие православия на духовный строй, сюжетосложение и образность пушкинской поэзии исследуется как в работах, посвященных определенному произведению или периоду творчества А. С. Пушкина (см.: [Мальчукова 1994; Барбашов 2011; Гаврильченко 2017]), так и в трудах о пушкинской поэзии, про- зе, драматургии (см.: [Боброва 1998; Мосалева 2011; Непомнящий 2009]). В работах, посвященных «Пророку» Пушкина, так или иначе отмечается в качестве центрального для стихотворения мотив преображения-перевоплощения-познания (см.: [Москвин 2016; Артамонова 2014; Слинина 1977; Гуревич 1967: 26]). Однако только в одном исследовании отстаивается мысль о том, что в пушкинском «Пророке» «рассказ о преображении пророка <…> соотнесен с обновлением, очищением христианина в таинстве причащения» [Мальчукова 1998: 173]. Соглашаясь с этим положением, мы отказываемся от дальнейших экстраполяций о том, что Пушкин показал «обобщенный образ апостола Христа», и пытаемся расставить исследовательские акценты, освещающие вопрос о своеобразии пушкинского «Пророка» в аспекте функционирования в нем общекультурного концепта ПРОРОК.
Христианский, евангельский, а точнее евхаристический, поворот определяет суть пророческого призвания у Пушкина. Ветхозаветная телесность образов «отверзания» «вещих зениц» героя, открытия некоего духовного слуха прикасанием серафима к его ушам, вырывания «грешного» языка и замены его на «жало мудрыя змеи», рассечения груди и замены сердца на «угль, пылающий огнём», несомненно, отсылает нас к сюжету избранничества древних библейских пророков. Однако в Ветхом Завете нигде не выражена идея замены частей тела пророков сущностно иными «частями», причастными Вечности, как не выражена она в и Коране, в котором исследователи видят один из источников пушкинского «Пророка». В видении пророка Исайи «один из Серафимов» коснулся его уст «горящим углем» в знак очищения греха (Ис 6: 6–7). Пророк Иезекииль по указанию Господа должен съесть свиток, на котором написаны слова обличения «дом Израилева»3. Более того, в книгах ветхозаветных пророков не выражена идея сопровождающего их призвание страдания, боли, фиксирующей телесный и, одновременно, духовный опыт отрывания человека от человеческого и приближения к небесному4. У Пушкина – впервые в русской поэзии – в сюжете призвания пророка ветхозаветная телесность соединена с мотивом глубокого страдания и абсолютного (вплоть до прохождения через границу смерти) преображения через замену человеческого «своего» на даруемое Господом. В этом соединении рождается христианский смысл преображения пророка: замена языка и сердца на «жало» и «угль» (несомненно, по внутреннему согласию и готовности героя) есть та «потеря» «души своей» ради Господа, которой учит Евангелие.
Мотив замены частей человеческого тела другими, чуждыми ему и исцеляющими его, имеет древние архаические корни и соотносится в формальном плане с шаманскими практиками посвящения (в шаманство): «<…> ощущение разрубания, разрезания, перебирания внутренностей есть непременное условие шаманства и предшествует моменту, когда человек становится шаманом» [Пропп 2000: 74]5. Шаманские практики, в свою очередь, в измененной форме и с преобразованием содержания имеют генетическую связь с языческим ритуалом жертвоприношения, который не только устанавливал связь «между сакральным и профанным миром посредством жертвы», но и представлял собой «особый случай системы посвящения», основанной на представлении одновременно о необходимости и опасности сближения с источником жизненной силы [Мосс 2000: 100].
Опираясь на ряд совпадений образов и мотивов пушкинского «Пророка» с формальными элементами, используемыми в шаманских практиках, Е. А. Торчинов утверждает, что «библейское пророческое обновление», «прекрасно прочувствованное и описанное Пушкиным», родственно тем ощущениям телесного расчленения и страдания, вплоть до перехода границы жизни и смерти, которые испытывает посвящаемый в шаманство [Торчинов 2007: 129]. При этом ученый не освещает вопрос о сущностном отличии обновления духа и тела библейских пророков от магического изменения телесно-психического состояния посвящаемых в шаманство; в стороне остается вопрос о различии смысла преображения героя в пушкинском «Пророке» и пророков в Ветхом Завете. Более определенно высказывается по этому поводу Ю. М. Лотман: отмечая несомненную формальную соотносимость стихотворения Пушкина с техниками превращения простого человека в шамана, он останавливается на мысли, что «скрытый мифо-обрядовый каркас» превратился у Пушкина «в грамматическую формальную основу построения текста об умирании «ветхого» человека и возрождении ясновидца» [Лотман 1999: 221–222].
Использование слова «ветхий» в размышлениях Лотмана, конечно, не случайно. В христианском богословии выражение «ветхий человек» имеет совершенно определенное значение: это человек, подпавший под власть самоугодия и страстей вследствие грехопадения; человек, порвавший прямую, полноценную связь с Господом [Феофан Затворник 2004: 244]. Сочетание «ветхий» человек у Ю. М. Лотмана подразумевает понимание вовлеченности пушкинского «Пророка» в смысловую перспективу христианства.
Действительно, в пушкинском стихотворении старый язычески-шаманский сюжетный каркас , описывающий изменения в состоянии сознания посвящаемого в шаманство, наполняется новым содержанием в новых условиях осуществления этого сюжета. В этих новых условиях человеческая перспектива сменяется божественной (серафим есть посланник Божий, в преображенном состоянии герой слышит «Бога глас»); цель магического управления реальностью заменяется глубинной духовной потребностью - жаждой Бога (в ответ на томление «духовной жаждой» герою является шестикрылый серафим); чудесная способность использования сил богов (природных стихий) для исполнения человеческих желаний замещается возлагаемой Господом миссией очищения человека через слово («глаголом жги сердца людей»). Смысловая парадигма пушкинского «Пророка» преобразует не только архаический шаманский, но и библейский ветхозаветный сюжет, на что лаконично указал Ю. М. Лотман.
Ветхозаветная идея призвания Господом пророков к служению не включала и не могла включать в себя смыслов, связанных с полным духовным и телесным преображением человека. Полнота такого преображения стала мыслиться только в контексте учения, жизни, смерти и воскресения Христа; в контексте евангельского, апостольского пути к полному преображению -обожению, в том числе в молитвенном подвиге и таинстве причастия. В древнееврейской религии, выраженной в Ветхом Завете, Бог понимается «как сверхприродное, мир превозмогающее, трансцендентное Существо», между миром и Богом «лежит абсолютное, непреодолимое для мира расстояние» [Булгаков 1999: 41]; и неискупленный еще человек пред Богом - лишь раб, которому следует строго исполнять данный ему Закон. В связи с этим в ветхозаветной Книге Пророка Исайи Серафим только касается уст Пророка горящим углем, очищая его от «беззакония». В язычестве же при всей «софийности мира» между человеком и богами жертва есть необходимый «посредник», потому что сближение между ними грозит человеку гибелью [Мосс 2000: 100]. И только «во Христе» соединяется и трансцендентная твари «полнота Божества, и имманентная миру человечность» [там же: 287], и только в христианстве Божественная благодать, ставшая близкой человеку через искупительную жертву Христа, «может воодушевить человека поднять руку на себя, чтобы заклать себя и принести Богу в жертву» [Феофан Затворник 2008: 129].
Мотив замены частей тела героя на сущностно другие, даруемые (через Серафима) Госпо- дом, выражает именно это полное христианское обновление. Об этом свидетельствует символическая условность соотнесенности даруемых «частей»-способностей со звериными, а затем включение в этот ряд огненной образности. Неслучайна в этом смысле неровность концептуализации этой соотнесенности: от сравнения («зеницы, как у <…> орлицы») через описание обновленной способности («и их наполнил шум и звон: / И внял я неба содроганье») к неожиданному реалистически-натуралистическому изображению («И вырвал грешный мой язык, / <_> / И жало мудрыя змеи <...>»; «И сердце трепетное вынул, / И угль, пылающий огнем <...>»).
На актуальность евангельского смыслового поля в актуализации общекультурного концепта ПРОРОК у Пушкина указывает и центральный символ преображения, и весь комплекс замещающих человеческое «свое» образов: « угль, пылающий огнем », замещает «сердце» пророка в той же перспективе, в какой во время совершения Евхаристии « угль Пресвятого <...> Тела» Иисуса Христа - «огнь сый и опаляяй недостойныя» -замещает падшее человеческое естество «Телом и Кровью» Христовыми (слова из евхаристических молитв святителя Иоанна Златоуста и преподобного Симеона Метафраста). Примечательно, что символическая связь таинства причастия с сюжетом очищения уст пророка Исайи раскрывается в самой православной церковной службе: прича-щальная лжица названа тем же словом, что и клещи, которыми Серафим в видении пророка Исайи берет уголь с жертвенника. Эта связь богословски раскрыта в словах святого Иоанна Дамаскина: «Исайя увидел угль; но угль не простое дерево, а соединенное с огнем; так и хлеб общения не простой хлеб, но соединенный с Божеством <…>» [Дамаскин 2003: 137]. Обобщая, можно утверждать, что пушкинский «Пророк» объединяет ветхозаветную перспективу концепта ПРОРОК с православной и изображает мучительный путь призвания поэта к прорицанию Истины в русле евхаристического - и шире - православного - духовно-физического обожения человека.
Евангельский, евхаристический контекст объясняет и необычную для ветхозаветного пророка-обличителя суть избранничества поэта-пророка в пушкинском стихотворении. Наделенный теперь нечеловечески обостренными телесными и, одновременно, духовными чувствами - зрением и слухом, дающими ему возможность внимать и «неба содроганье», «и горний ангелов полёт», «и дольней лозы прозябанье», - он призван видеть, внимать, исполниться волей Божьей и -только на этом твердом основании - «глаголом» жечь «сердца людей». Несомненна связь этого призыва Господа - «Глаголом жги сердца лю- дей!» – с образом «угля, пылающего огнем», вложенного в грудь самого поэта-пророка. «Огненная» символика в Библии шире обличительной. Столь же расширительно следует понимать и призвание поэта-пророка: это призвание к служению Словом – словом, приобщенным Истине, доходящим до сердца, выжигающим самой своей божественной природой нечистоту в нем и раздувающим огонь божественной любви. О том, что для образа пророка в стихотворении Пушкина сохраняет свое значение идущая (для русской литературы) из XVIII в. традиция узнавания поэтом в себе поэта-пророка, свидетельствует сам текст (призыв Господа «глаголом жги сердца людей» подразумевает не просто пророческий дар, но дар художественного слова, что особенно очевидно в контексте поэтической полемики Пушкина с «пророками» Ф. Н. Глинки, В. Г. Кюхельбекера и Н. М. Языкова); об этом же говорит большинство исследователей (см., например: [Березкина 1999; Москвин 2016; Непомнящий 1987])6.
Обозначим точки пересечения содержания концепта ПРОРОК в стихотворении Пушкина и поэтов его круга. Это автобиографический, личностный образ поэта-пророка, наделенного небесным даром и призванного в связи с ним самим Господом к выполнению священного служения людям. В целом, это точка, в которой декабристская поэзия встречается с поэзией конца XVIII в. и соотносится со смысловым полем ядра общекультурного концепта ПРОРОК.
У Пушкина не воспроизводится общий «декабристский» сюжет, соотнесенный в культуре эпохи с социально-политической реальностью современной истории, с романтическими мятежными настроениями, с четкой обличительной миссией поэта. Стихотворение Пушкина в диалоге с текстами поэтов его круга, в своеобразном восприятии как декабристских, так и всей толщи христианских и просветительских смыслов рождает новое, комплексное и индивидуальное осмысление поэзии как пророчества. Стихотворение изображает глубоко личный внутренний путь поэта, взалкавшего правды и желающего посвятить свой дар служению истине. В нем изображается ответное избранничество Поэта Господом для высокого и трудного пути – пути служения народу, приобщения его гласу Божьему через поэтическое творчество, через поэзию как пророчество. Основной акцент в сюжете при этом сдвигается у Пушкина с пророчества как миссии на мучительное духовно-физическое преображение поэта – преображение в евангельском ключе обожения человека.
Пушкинский «Пророк» спорит с «пророческим каноном», сложившимся в творчестве поэтов-декабристов. Он отталкивается от декаб- ристских образов пророков-обличителей, поэтов-декабристов и в то же время наследует смыслы боговдохновенности поэзии и гражданственного служения – смыслы, которые роднят декабристский слой общекультурного концепта ПРОРОК с его ядром и которые прослеживаются «помимо» антично-просветительского поля концепта и в поэзии XVIII в.
Важнейшей отличительной чертой осмысления общекультурного концепта ПРОРОК в «Пророке» Пушкина является акцентуация евангельского, евхаристического смыслового потенциала, заложенного во внутренней форме и ядре концепта7. При этом в сюжете мучительного духовно-телесного превращения-обожения и связанного с ним божественного призвания пророка к преображению людей через боговдохновенный «глагол» Пушкин гармонически соединил два первичных смысловых импульса концепта: импульс библейского пророчества о Вечности и импульс человеческого речения о мире.
Примечания
-
1 Излишне говорить, что эта первичная актуализация антично-просветительского поля концепта ПРОРОК в пушкинском поэтическом сознании соотносится с общеизвестным воздействием на становление Пушкина-поэта античной поэзии и французской литературы XVIII в. См. об этом, в частности, классические труды: [Жирмунский 1937: 66–103; Томашевский 1960; Бонди 1983; Вольперт 1998]. А также: [Пушкин 2001].
-
2 В точном определении о. С. Булгакова, если в «Ветхом Завете Бог открылся <…> прежде всего как сверхприродное, мир превозмогающее, трансцендентное Существо», то «во Христе «нераздельно и неслиянно» соединяется и трансцендентная твари «полнота Божества», и имманентная миру человечность»; в Новом Завете «полагается основа обожения человека во «втором Адаме», восстановление его в достоинстве сына Божия <…>». См.: [Булгаков 1999: 287, 293].
-
3 О связи образности пушкинского стихотворения с библейскими образами см.: [Чижов 1983].
-
4 По поводу темы мучения в пушкинском «Пророке» В. Э. Вацуро поясняет: «Мысль эта [мученичество. – С. К. ] принадлежит самому Пушкину, ее нет в библейских книгах пророков». См.: [Вацуро 1994: 7–16].
-
5 В. Я. Пропп говорит, в частности, и о том, что в ритуале посвящения в шаманы используется такое символико-магическое действие, как «введение в рот маленькой змеи, которая воплощает магические способности» [Пропп 2000: 74].
-
6 Иная точка зрения представлена, в частности, в исследовании В. Э. Вацуро: «“Пророк” написан не о пророке, а о том, как суровый, пат-
риархальный, <…> житель пустыни совершал свой мученический путь, завоевывая право нести людям волю Божества. Это стихи не о божественном, а о человеческом». См.: [Вацуро 1994: 16].
-
7 Ср.: «В литературе возрастает значимость <…> «внутренней формы слова», первообраза». См.: [Зусман 2001: 12].
Associate Professor in the Department of Teaching Russian as Native and Foreign Language
Linguistics University of Nizhny Novgorod
ResearcherID: M-2854-2016
Wu Baizhen
Associate Professor in the Department of Russian Language
Northeast Petroleum University (PRC)
ResearcherID: J-8959-2018
Submitted 15.05.2018
PROPHET is one of significant concepts of Russian culture. Its core (inner form) is characterized by tense contradictoriness. That is caused by differences between its associative fields, which are connected with the Christian roots of the concept, on the one hand, and the morphemic structure of the word ‘prorok’ (prophet), on the other hand. In the 18th century, the concept acquires a new ‘antique-enlightenment’ layer, which remains relevant through the beginning of the 19th century, including the period of early Pushkin’s poetry. At the same time, in G. R. Derzhavin’s and I. I. Dmitriev’s poetry the meanings of the ‘core layer’ of the concept are not neglected. At the beginning of the 19th century, in poetry of the Decembrists another associative field of the concept – the Decembrist, or the civic-minded, political one – is formed.
In his poem The Prophet , Alexander Pushkin sets out a personal dialogue with the ‘prophet canon’ of Russian literature, basing upon and revolting against the Decembrists’ images. Using such elements of the Decembrist field of the concept PROPHET as implied autobiographical character of ‘I’, civic-mindedness of the image of prophet and Old Testament reminiscences in the text, he goes back to the core meanings of the concept – both to those that figured in tradition (e.g. in Derzhavin’s works) and to those that had not. For the first time in Russian poetry, it is not the vocation or the mission of the poet-prophet that is in the center of the plot, but the torturous process of his physical-and-spiritual transfiguration – the transfiguration clearly based upon the New Testament idea of man’s Theosis. Depicting the poet’s profoundly personal choice, the synergetic act of the divine calling, the martyrdom of his spiritual and physical transfiguration, Pushkin’s Prophet conciliates the two bidirectional meanings inherent in the core of the national concept. The poet’s vocation, as is revealed in the poem, does not consist in denouncing faults and vices, but primarily includes acts of purifying people and exhorting them to the Eternity through God-inspired poetry.
Список литературы Судьба концепта в литературе: пушкинский "Пророк" в диалоге с русской культурой
- Артамонова Л. А., Карпенко Г. Ю. Мотив преображения в стихотворении А. С. Пушкина «Пророк» и в рассказе Ф. М. Достоевского «Мужик Марей»//Вестник Самарского государственного университета. 2014. № 1(112). С. 140-145.
- Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. 343 с.
- Барбашов С. Л. Религиозно-философская символика образа «креста» в последнем лирическом цикле А. С. Пушкина//Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 1. С. 134-138.
- Батюшков К. Н. Послание к И. М. Муравьеву-Апостолу//Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М.: Наука, 1977. С. 283.
- Березкина С. В. «Пророк» Пушкина: современные проблемы изучения//Русская литература. 1999. № 2. С. 27-42.
- Боброва Л. А. Пушкин и православие//Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3: Философия. М., 1998. № 3. С. 226-237.
- Бонди С. М. Пушкин и русский гекзаметр//Бонди С. М. О Пушкине. Статьи и исследования. М.: Худож. лит., 1983. С. 307-370.
- Булгаков С. Первообраз и образ: в 2 т. СПб.: Инапресс; М.: Искусство, 1999. Т. 1. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. 416 с.
- Вацуро В. Э. Пушкин. «Пророк»//Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб.: Академ. проект, 1994. С. 7-16.
- Вихлянцев В. П. Библейский словарь к русской канонической Библии. М., Коптево: Сам Полиграфист, 2010. 517 с.
- Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. М.: Языки рус. культуры, 1998. 327 с.
- Гаврильченко О. В. Понятие закона и законности в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. 2017. Т. 22, № 3. С. 398-406.
- Гайворонская Л. В. Генезис характера «поэт» в русской литературе XVIII века//Вестник МГОУ. Русская филология. 2012. № 5. С. 73-82.
- Гаспаров М. Л. Поэт и поэзия в римской культуре//Культура Древнего Рима: в 2 т. М.: Наука, 1985. Т. 1. С. 300-335.
- Глинка Ф. Н. Избранные произведения. Л.: Сов. писатель, 1957. 502 с.
- Григорьева А. Д. Опыты в антологическом роде//Григорьева А. Д., Иванова Н. А. Язык лирики XIX века. Пушкин. Некрасов. М.: Наука, 1981. С. 120-154.
- Гуревич А. М. На подступах к романтизму (о русской лирике 1820-х годов)//Проблемы романтизма. М.: Искусство, 1967. 358 с.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1978-1980. Т. 3. 555 с.
- Державин Г. Р. Сочинения: в 2 т. СПб.: Типография Смирдина, 1831-1833. Т. 1. С. 55-57.
- Державин Г. Р. Сочинения: Стихотворения; Записки; Письма. Л.: Худож. лит., 1987. 504 с.
- Дмитриев И. И. Духовная песнь, извлеченная из 48 псалма//Дмитриев И. И. Полное собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1967. С.315-316.
- Жаткин Д. Н., Долгов А. П. К вопросу о трактовке темы поэта-пророка в сонете А. А. Дельвига «Вдохновение»//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2008. № 7. С. 106-110.
- Жирмунский В. М. Пушкин и западные литературы//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 66-103.
- Зусман В. Г. Диалог и концепт в литературе. Н. Новгород: Деком, 2001. 168 с.
- Карасик В. И. Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования//Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж: ВГУ, 2001. С. 75-80.
- Кибальник С. А. Русская антологическая поэзия первой трети XIX в. Л.: Наука, 1990. С. 209-210.
- Кибальник С. А. Художественная философия А. С. Пушкина. СПб.: Petropolis, Институт русской литературы, 1998. 200 с.
- Крылов Г. А. Этимологический словарь русского языка. СПб.: Полиграфуслуги, 2005. 432 с.
- Кюхельбекер В. К. Участь поэтов//Поэты-декабристы: Стихотворения. М.: Худож. лит., 1986. 431 с.
- Кюхельбекер В. К. Сочинения. Л.: Худож. лит., 1989. 576 с.
- Ларкович Д. В. Поэтический «профетизм» и «экзегезис» Г. Р. Державина//Религиоведение. 2009. № 3. С. 155-163.
- Лотман Ю. М. Семиосфера и проблема сюжета//Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек -текст -семиосфера -история. М.: Языки рус. культуры, 1999. 464 с.
- Мальчукова Т. Г. Лирика Пушкина 1820-х годов в отношении к церковнославянской традиции (к интерпретации стихотворений «Воспоминание» и «Пророк» в контексте христианской культуры)//Проблемы исторической поэтики. 1998. С. 151-177.
- Мальчукова Т. Г. О сочетании античной и христианской традиций в лирике А. С. Пушкина 1820-х -1830-х гг.//Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: ПГУ,1994. Т. 3. С. 84-130.
- Мосалева Г. В. Категория преображения в творчестве А. С. Пушкина//Пушкинские чтения-2011. «Живые» традиции в русской литературе: жанр, автор, герой, текст. СПб.: Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 2011. С. 254-262.
- Москвин Г. В. Пророк: таинство преображения и жажда истока (пророческая тема в поэзии А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова)//Вестник ННГУ. Филология. 2016. № 2. С. 240-245.
- Мосс М. Социальные функции священного. СПб.: Евразия, 2000. 448 с.
- Непомнящий В. Пушкин и судьба России//Непомнящий В. Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы. М.: Благовещение, 2009. 400 с.
- Непомнящий В. Поэзия и судьба: над страницами духовной биографии Пушкина. М.: Советский писатель, 1987. 446 с.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. 333 с.
- Пушкин А. С. Пророк//Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1959. Т. 3, кн. 1. Стихотворения, 1826-1836. Сказки. 1948. С. 30-31.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1959. Т. 3, кн. 1: Стихотворения, 1826-1836. Сказки. 1948. 635 с.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинения: в 10 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977-1979. Т. 2: Стихотворения 1820-1826. 400 с.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977-1979. Т. 3: Стихотворения, 1827-1836. 496 с.
- Пушкин и античность. М.: Наследие, 2001. 141 с.
- Слинина Э. В. «Пророк» Пушкина и образ поэта в лирике Н. Заболоцкого//Пушкинский сб. Л.: ЛГПИ, 1977. С. 77-85.
- Сурат И. «Твое пророческое слово..»//Новый мир. 1995. № 1. С. 236-239.
- Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. М.: Академ. проект, 2001. 990 с.
- Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. М.: Языки рус. культуры, 1997. 824 с.
- Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л.: Сов. писатель, 1960. 498 с.
- Торчинов Е. А. Религии мира: опыт запредельного: психотехника и трансперсональные состояния. СПб.: Азбука-классика, 2007. 539 с.
- Тынянов Ю. Пушкин и Кюхельбекер//Литературное наследство. М.: ИМЛИ РАН, 1934. Т. 16. С.321-378.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка/пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева: в 4 т. М.: Прогресс, 1987. Т. 3. 832 с.
- Феофан Затворник. Путь ко спасению. М.: Правило веры, 2008. 60 c.
- Феофан Затворник. Толкование послания святого апостола Павла к колоссянам. Гл. 3. Стих 9//Феофан Затворник. Толкования посланий апостола Павла к колоссянам, к филлипийцам. М.: Правило веры, 2004. С. 243-245.
- Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л.: Наука, 1986. 304 с.
- Чижов А. Г. «Духовною жаждою томим..»//Наука и религия. 1983. № 2. С. 54-55.
- Языков Н. М. Письмо Пушкину А. С., 19 августа 1826 г. Дерпт//Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1959. Т. 13. Переписка, 1815-1827. 1937. С. 291 -292.