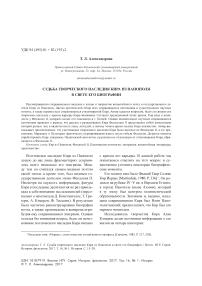Судьба творческого наследия Кира из Панополя в свете его биографии
Автор: Александрова Татьяна Львовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются сохранившиеся сведения о жизни и творчестве византийского поэта и государственного деятеля Кира из Панополя. Дается критический обзор всех сохранившихся источников и существующих научных гипотез, а также перевод всех сохранившихся стихотворений Кира. Автор задается вопросом, было ли связано его творческое наследие с крахом карьеры Кира-чиновника. Согласно традиционной точке зрения, Кир впал в немилость у Феодосия II, который сослал его епископом в г. Котией. Однако внимательное изучение сохранившихся источников приводит к выводу, что рассказ о разжаловании Кира Феодосием II представляет собой компиляцию историй разных лиц и является всего лишь легендой, а потому точное время ссылки Кира неизвестно. Автор высказывает предположение, что уничтожение творческого наследия Кира было выгодно не Феодосию II, а его преемникам, Маркиану и Пульхерии, фактически узурпировавшим власть после гибели Феодосия. Делается попытка атрибутировать Киру эпиграмму Палатинской антологии, в рукописи не отделенную от стихотворения Кира, обращенного к Феодосию II.
Кир из панополя, феодосий ii, палатинская антология, эпиграмма, византийская литература, христианство
Короткий адрес: https://sciup.org/147219690
IDR: 147219690 | УДК: 94
Текст научной статьи Судьба творческого наследия Кира из Панополя в свете его биографии
Поэтическое наследие Кира из Панополя дошло до нас лишь фрагментарно: сохранилось всего несколько его эпиграмм. Между тем он считался самым видным поэтом своей эпохи, а кроме того, был видным государственным деятелем эпохи Феодосия II. Несмотря на скудость информации, фигура Кира в последние десятилетия не раз привлекала к себе внимание исследователей (персонально о нем писали Д. Константелос, Т. Грегори, А. Кэмерон, Ф. Тиссони). В результате была частично реконструирована биография поэта, а также произведена и выверена атрибуция ему сохранившихся эпиграмм. Однако остался без внимания вопрос, было ли исчезновение поэтического наследия Кира связано с крахом его карьеры. В данной работе мы попытаемся ответить на этот вопрос и существенно уточнить некоторые биографические моменты.
Его полное имя было Флавий Тавр Селевк Кир Иеракс [Martindale, 1980. P. 336] 1. Он родился на рубеже IV–V вв. в Верхнем Египте, в городе Панополе (ныне Ахмим), который в ту эпоху был центром эллинистической образованности. Земляком и, видимо, младшим современником Кира был Нонн Пано-политанский; предполагают, что Кир был его первым читателем.
Исследователь творчества Кира Алан Кэмерон делит источники информации о его жизни на четыре категории:
-
1) отдельные дошедшие до нас стихи самого Кира;
-
2) близкое по времени житие Даниила Столпника (Кэмерон считает этот источник наиболее достоверным);
-
3) императорские указы, вошедшие в Кодекс Юстиниана, в которых сообщаются точные даты;
-
4) «литературные» источники (Иоанн Малала, Пасхальная хроника, Феофан Исповедник, а кроме того, статья о Кире из словаря Суда.
Первая префектура Кира известна из Кодекса Юстиниана (CJ 2. 7.5a) – в 426 г. он уже значился префектом Константинополя [Martindale, 1980. P. 336–337]. Однако заметное его возвышение начнется только в конце 430-х гг. В житии Даниила Столпника (VD 31) отмечается, что Кир занимал несколько постов.
Новое возвышение Кира, возможно, связано с его поэтическим творчеством, которым «безмерно восхищалась» (ὑπερηγάσθη) супруга Феодосия II императрица Евдокия, тоже поэтесса. Кир проявил себя как придворный поэт-панегирист. «Мы даже не знаем названий его основных поэм, – пишет Кэмерон, – хотя естественно предположить, что в основном это были панегирики Феодосию и Евдокии, эпиталамии и т. п. в честь менее значительных придворных, эпические произведения о войнах императора 2 и, возможно, изысканные мифологические <…> Короче, это был греческий Клавдиан» [Cameron, 1982. P. 225]. Кэмерон предполагает, что именно к периоду конца 430-х гг. относится дошедшая до нас в составе Палатинской антологии (PA 15, 9) похвала Феодосию:
Все Эакида дела преславные ты совершаешь,
Гнев лишь и страсть тебе чужды. Как лучник – Тевкру подобен,
Но не побочный ты сын. Лицом величия полон,
Как Агамемнон, но только души вино не смущает.
Быстрым умом с Одиссеем тебя сравнить я хотел бы,
Только лукавства ты чужд. Подобно пи-лосскому старцу
Медоточивую речь, о царь, из уст испускаешь.
Пусть же тройной тебе век, как ему, прожить доведется! 3
Cтупени карьерного восхождения самого Кира из сохранившихся памятников законодательства. С декабря 439 г. по август 441 г. упоминания о нем в издаваемых Феодосием II законах регулярны. Вот эти даты:
6 декабря 439 г. – NTh. 18а.
22 января 440 г. – CJ 8.11.21.
-
5 апреля 440 г. – CJ 2.14.7.
20 мая 440 г. – CJ 3.4.1a.
21 сентября 440 г. – NTh. 20.
-
6 марта 441 г. – CJ 12. 8.2.
26 июня 441 г. – NTh. 5.3a.
18 августа 441 г. – CJ I 55.10 4.
Кроме того, из папирусов известны еще две даты: 4 сентября 441 г. и 6 декабря 441 г., когда Кир оказывается уже «бывшим консулом» (Кэмерон на этом основании считает, что его консульство завершилось насильственным смещением, связанным с падением Евдокии, однако это доказательство не представляется однозначно убедительным) [Cameron, 1982. P. 258].
Сведения о Кире-префекте несколько противоречивы.
Чиновник VI в. Иоанн Лидиец сообщает о Кире-префекте следующее: «Когда египтянин Кир, поэзией которого и сейчас восхищаются, одновременно занимая должность градоначальника и начальника претория, и при этом ничего кроме поэзии не зная, дерзнул нарушить древний обычай и стал издавать указы на греческом языке, вместе с языком должность утратила и силу. Ибо царь подписал указ, лишающий должность всякой власти» [Ioannes Lidus, 1837. P. 178].
В то же время есть свидетельства о весьма плодотворной деятельности Кира. Так, Евагрий Схоластик говорит, что Кир был «вождем западных войск в то время, как Карфагеном овладели вандалы под предво- дительством Гензериха» [Евагрий Схоластик, 2010. С. 96]. Однако скорее всего Кир не покидал пределов Константинополя, а с вандалами связано возведение во время его префектуры приморских стен, о котором сообщается в Пасхальной хронике под 439-м годом 5.
Кроме того, известно, что Кир построил церковь Богородицы. Об этом говорится в словаре Суда: «Он построил храм Богородицы, называемый Кировым» (Suid. К2777), – а также в сборнике повествований о константинопольских древностях (Patria 3, 111): «Церковь Богородицы в Кировых владениях построил Кир, патрикий и эпарх, восстановивший сухопутную стену постройки Феодосия Младшего, и димы кричали: “Кир победит и преуспеет во всем”» [Accounts of Medieval Constantinople, 2013. P. 188].
После 18 августа 441 г. точных сведений о Кире больше нет, зато дошли разные версии рассказа о его падении и о причинах этого падения, которые будут подробнее рассмотрены ниже. Несомненно лишь то, что Кир оказался в ссылке, на что косвенно указывает и его собственное сохранившееся стихотворение (PA 9, 136).
Если б отец научил меня скот пасти густорунный,
Чтоб под тенистыми вязами сидючи иль под скалою,
Я на сиринге играл, тростником печаль утоляя!
О Пиериды, покинем сей град благоздан-ный, в иное
Мы устремимся отечество! Ныне я вам возвещаю:
Гибель несущие трутни всех пчел у нас истребили.
Здесь следует обратить внимание на то, что Кир иносказательно жалуется не только на перемену в собственной судьбе, но и на какие-то нежелательные изменения в государстве. Обычно считают, что под «трутнями» подразумевался евнух Хрисафий, согласно Житию Даниила Столпника, причастный к изгнанию Кира, и его приспешники, и что это произошло еще при жизни Феодосия II, однако ниже эта точка зрения будет оспорена.
Попав в ссылку накануне Рождества, Кир произнес в церкви краткую проповедь, которая даже дала повод исследователям считать его богословом и последователем патриарха Константинопольского Прокла [Gregory, 1975]. «Братья, Рождество Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа да почитается в молчании, ибо от одного услышания Он был зачат Святой Девой. Ему же слава вовеки. Аминь» [Ioannis Malalae, 1831. P. 362].
Находясь в Котиее, Кир, по-видимому, написал страдание св. Мины, совместив фигуру мученика, почитаемого в Панополе, со страданием мч. Гордия [Cameron, 1982. P. 243–245].
Уже в 60-е гг. V в. Кир стал почитателем прп. Даниила Столпника, подвизавшегося в Анапле, близ Константинополя. В Житии прп. Даниила о нем сообщается следующее: «Бывший консул и бывший префект претория. Он был человеком очень честным и мудрым, и прошел все служебные ступени благодаря своему уму. Но в преклонном возрасте он пострадал от козней Хрисафия, спафария, и был сослан епископом в маленький городок Фригии Котией, и осознав предательство Хрисафия, смирился с этим, чтобы не привести свою жизнь к печальному концу. После смерти царя Феодосия он сложил с себя священнический сан и вернулся в мирское сословие, и в нем оставался до конца жизни» [The Vita S. Danielis Stylitae, 1925. P. 402].
Кроме того, приказал вырезать на столпе Даниила следующие стихи:
Между землею и небом сей муж обитает предивный.
И не страшится ничуть силы упорных ветров.
Пища нетленная – глад, а питье – бескровная жажда,
В мощный двухъярусный столп крепко стопами он врос.
Имя ему – Даниил, Симеону великому равен.
Сына он славит, что был Девой Пречистой рожден [Cameron, 1982. P. 250].
Стихи дошли в списках жития, а также в Палатинской антологии (PA 1, 99); порядок строк в них различен, Кэмерон доказывает, что в житии он более аутентичен. Кэмерон считает, что карьера Кира обрушилась уже в 441 г., и тогда же он был отправлен в ссылку.
Умер Кир, по-видимому, около 470 г. [Cameron, 1982. P. 225].
Рассмотрим вкратце приписываемые ему произведения.
В цитированном выше отрывке Иоанна Лидийца констатируется, что поэзия Кира все еще вызывает восхищение. Значит, в VI в. она как-то сохранялась. Тем не менее количество стихов, дошедших в Палатинской антологии, явно недостаточно для поэта, которого считали великим. Часть стихов в этой антологии подписана именем Кира, но по контексту понятно, что это поэт второй половины VI в. (в одной из эпиграмм упоминается жена Юстина II императрица София).
Кэмерон считал, что второму Киру принадлежит и эпиграмма PA 9, 808. Однако Ф. Тиссони [Tissoni, 2008. P. 76–81] и М. Уитби [Whitby, 2013. P. 214] полагают, что она все же может быть сочинением Кира из Па-нополя, а Максимин может быть отождествлен с одним из магистратов и полководцев Феодосия II 6.
Предположение правдоподобно, тем более что стихотворение написано гекзаметром (в VI в. преобладает элегический дистих). Стихотворение представляет собой надпись на какой-то постройке:
Древле воздвиг меня Максимин в ново-созданном Риме
Здесь, на морском берегу, укрепив основанья надежно.
Всюду простор окружает меня, отрадный для взоров,
Там и тут. Позади распростерся город, а прямо
Перед собою я зрю Вифинии дивные земли.
Снизу волна набежит на мощную твердь основанья,
Пеной соленой плеснув, в священную соль возвратится,
Легкое облако брызг долетит до самого верха.
Часто и пламенный гнев утихал под сенью моею,
Ежели кто, опершись на перила, вдали созерцает
Море, деревья, дома, корабли, и землю, и воздух.
Тиссони считает, что надписание на этой эпиграмме – «Кира, бывшего консула» – говорит о том, что эпиграмма написана после возвращения Кира в Константинополь при Маркиане (отчего он и вспоминает пик своей карьеры) [Tissoni, 2008. P. 75].
Тиссони полагает также, что Киру может принадлежать эпиграмма PA 8, 810:
Пиндара статую Кир у воды воздвиг, ибо древле
Молвил поэт сей: «всего лучше на свете вода».
Относительно эпиграмм PA 7, 557 и PA 9, 623, которые оказались среди эпиграмм Ага-фия Миринейского и на этом основании отвергнуты Кэмероном, Тиссони определенного суждения не высказывает, поскольку здесь может быть ошибка атрибуции [Ibid.]. Тем не менее приведем здесь и эти эпиграммы, потому что по духу и тону они близки поэзии Кира:
Тридцать лет прожила на свете Майя, ее же
Через три года Аид горькой стрелой поразил.
Женщина эта была цветущей розе подобна,
И Пенелопе меж тем в добрых равнялась трудах (PA 7, 557).
И:
Здесь искупавшись, Киприда с Харитами и златострельным
Сыном своим, навсегда прелесть оставила нам (PA 9, 623).
Кэмерон вслед за Виламовицем приписывает Киру также эпиграмму PA 9.363, подписанную именем поэта конца I в. до н. э. – I в. н. э. Мелеагра Гадарского [Cameron, 1982. P. 232]. Один из поводов для отождествления – явные переклички последних строк эпиграммы с подписанной именем Кира эпиграммой PA 9, 136.
Вот уже ветры ненастной зимы эфир покидают
В пурпуре царском весна цветоносная дарит улыбки.
Иссиня-черную землю венчает трава молодая.
Юные почки набухли на каждом растенье ожившем.
Уж раскрываются розы и, смехом полнясь счастливым,
Нежную тянут луга росу кормилицы-Эос.
Рад свирели пастух, в горах свой клич поднимая;
Видя серых козлят, козопас душою ликует.
Вот уже снова плывут моряки по обширному морю
И безмятежный Зефир надувает льняное ветрило.
Уж воспевают хвалу Дионису, подателю гроздьев
Кудри венчая плющом и лозой цветущей, вакханты.
Быкорожденной пчеле труды искусные в радость,
В улей стремясь хлопотливо, она из белого воска
Заново лепит теперь ноздреватые ладные соты.
Племя пернатое птиц заводит звонкие песни.
Ласточки с кровель щебечут, в волнах звенят зимородки
Лебедь поет на речных берегах под сенью деревьев,
Если ж листвой улыбается лес и земля вся в цветенье,
Если сиринга пастушья поет для овец пышнорунных,
И на волнах корабли, Дионис завел хороводы,
Птицы щебечут и пчелы в трудах своих неустанны,
Как же певцу не воспеть красоты порою весенней?
Учитывая переклички с PA 9, 136, можно предположить, что и это стихотворение иносказательно, что это не просто буколическая безделка, а своего рода программа царство- вания Феодосия II (эпитет весны πορφυρέη укрепляет это предположение).
Хотя репутация великого поэта за Киром сохраняется, нет никаких определенных свидетельств, что его знали и читали, и никаких цитат из него у позднейших авторов не находится. Так с чем же все-таки связана гибель поэзии Кира? «Стихи Кира пролили бы свет на интриги двора Феодосия», – справедливо замечает Кэмерон [Cameron, 1982. P. 225]. Но этих стихов, восхваляющих правление Феодосия, почти не сохранилось. Кому же было выгодно исчезновение его поэзии? Забегая вперед, скажем, что ответ на этот вопрос напрямую связан с обстоятельствами и датировкой падения Кира. Поэтому далее мы вновь рассмотрим имеющиеся свидетельства.
Словарная статья «Суды» о Кире гласит следующее: «Он был консулом и патрикием. Ибо Евдокия, жена Феодосия, будучи царицей, чрезвычайно восхищалась Киром, любя поэзию. Но когда она оставила царство и находилась в Иерусалиме, Кир по злоумышлению стал епископом в Котиее фригийском, где и оставался до времени царя Льва» (Suid. Θ145]. Как мы видим, здесь установлена причинно-следственная связь между удалением в Палестину императрицы Евдокии и падением Кира, но по чьему злоумышлению Кир был низвергнут, не сказано.
Кэмерон датирует отъезд Евдокии 440– 441 г., исходя из того, что Марцеллин Комит относит к 440 г. казнь Павлина, ее предполагаемого любовника. История о любовной связи Евдокии с Павлином, несмотря на то, что она красочно описана во многих источниках, скорее всего, является позднейшим вымыслом [Martindale, 1980. P. 847; The Chronicle of Marcellinus, 1995. P. 84]. Впрочем, даже если принять ее за истину, получается, что именно в то время как Евдокия лишается доверия Феодосия (в 440 г.), ее ставленник Кир продолжает успешно восходить на вершину карьерной лестницы, в 441 г. совмещая практически все высшие должности: префекта Константинополя, префекта претория и консула в обеих частях империи. Другая бытующая ныне датировка – 443–444 гг. [Holum, 1982. P. 177, 189–190]. Однако есть основания полагать, что Евдокия удалилась в Иерусалим не в 440 г., а, по крайней мере, на несколько лет позже (не ранее 444 г., а может быть, и в самом конце 440-х гг.) 7.
Надо сказать, что сведения о евнухе Хри-сафии также относятся в основном к концу 440-х гг. [Martindale, 1980. P. 295], а распространение его влияния на целое десятилетие является лишь гипотезой, в значительной мере опирающейся на зыбкую датировку отъезда Евдокии в Иерусалим.
Наконец, есть повод предполагать, что «Житие Даниила Столпника», где говорится, что Кир был сослан при Феодосии, – источник довольно тенденциозный. Об этом будет сказано ниже.
Продолжим рассмотрение источников. Сведения Иоанна Малалы (VI в.) и Пасхальной хроники (VII в.) очень близки по тексту, но в то же время имеют отличия, поэтому приведем их параллельно (см. таблицу).
Интересны не только эти фрагменты, но и предшествующие им. В Пасхальной хронике непосредственно перед абзацем о Кире написано: «…Так же и Аттила умирает от истечения крови из носа в ночь, когда он спал со своей гуннской наложницей, и эту девушку подозревали, что она его и убила. Об этой войне написал мудрейший Приск Фракиец». И далее следует «Он говорит» (начало рассказа о Кире), из чего можно подумать, что автор цитирует Приска. Но цитирует он почти дословно Малалу, у которого не сказано, что эти сведения о Кире взяты у Приска. Со ссылкой на Приска у него дается лишь та же информация о смерти Аттилы, но дается она на несколько страниц раньше, после чего следуют слова: «Об этой войне написал мудрейший Приск Фракиец», – затем идут несколько абзацев, посвященных Феодосию, однако нельзя утверждать, что источник их всех – Приск.
Автор Пасхальной хроники скорее всего просто скопировал текст у Малалы, немного сократив и подкорректировав часть сведений. По какому источнику хронист выправлял их, непонятно, но если это сам Приск (что было бы логично), то получается, что у него сведения даже менее точны, чем у Малалы (например, названа Смирна вместо Котиея).
Кэмерон считает, что текст Приска наиболее адекватно отражен в словаре Суда: «Феодосий Младший, разжаловав Антиоха пре-позита, поставил его в пресвитеры 8. Он же разжаловал Кира, воспринявшего власть и занимавшего две высшие должности в одно и то же время. Он же, удивившись такому благоденствию, ответил следующее: “Не нравишься ты мне, слишком улыбчивая судьба”. И он был разжалован как якобы язычник и стремящийся к власти; имущество его было отписано в казну, а сам он оказался в епископом в Котиее Фригийском. И после него при власти был один Хрисафий по прозвищу Зумма» (Suid. Θ 141). Впрочем, возможно, и это пересказ Малалы.
В Пасхальной хронике рассказ о Кире почему-то привязан к рассказу о смерти Аттилы и стоит под 450 г., при том, что смерть Аттилы относится к 453 г. (а даже если вести отсчет от битвы на Каталаунских полях – не ранее 451 г.). У Феофана Исповедника этот же рассказ помещен под 444/445 г. [Theophanis, 1885. P. 96–97] 9. Следует обратить внимание на то, что имя императора, сославшего Кира, в большинстве источников (кроме жития Даниила Столпника и Суды) не называется, хотя по умолчанию считается, что речь идет о Феодосии.
Весьма ценным представляется сведение о «преемнике» Кира, Антиохе Хузоне Младшем. Этот Антиох действительно был префектом претория Востока в 448 г., и предшественником его был Флавий Константин [Martindale, 1980. P. 317].
Осенью 447 г. в Константинополе случилось страшное землетрясение, в результате которого обрушились стены и упало 57 башен, о чем сообщает Марцеллин Комит под соответствующим годом. При том что в это время над городом нависала угроза напа-
Иоанн Малала
«Тот же царь поставил эпархом города па-трикия Кира, философа, мужа, мудрейшего во всем. И он правил, совмещая две должности четыре года, выезжая в повозке эпарха претория, а возвращаясь в повозке эпарха города и заботился о зданиях и заново отстроил весь Константинополь, ибо был честнейший человек. И о нем кричали византийцы весь день, в присутствии Феодосия, следующее: “Константин основал, Кир заново отстроил. Поставь его на это место, август”. Кир, испугавшись, отвечал: “Не нравится мне слишком улыбчивая судьба”. И разгневался царь, что они кричали так о Кире, и после Константина называли его строителем города, и затем был осужден сам Кир и обвинен в язычестве, и лишен всех должностей и имущество его было конфисковано. И бежав, он сам стал священником и был послан во Фригию, став епископом в городе, называемом Котиеем. А жители Котиея уже убили четырех епископов. Котией находится во фригийской области Салутарии. И прибыл епископ Кир в Котией накануне святого Рождества. А клирики и граждане, узнав, что царь сослал его как язычника, чтобы он там умер, во время святого Рождества внезапно стали кричать в церкви, чтобы он сказал проповедь. И благословив их, он стал проповедовать так < текст проповеди см. выше >. И оставался там до смерти. Как эпарх он предшествовал Антиоху Хузону, потомку Антиоха Хузона великого ⃰ » [Ioannis Malalae, 1832. P. 362].
Пасхальная хроника
«450 г. Он ⃰ ⃰ говорит, что Кир был назначен эпархом претория и эпархом города, и, выехав из дому, будучи эпархом претория, пересел в повозку эпарха города. Он совмещал обе должности четыре раза и придумал, как устроить освещение вечером и ночью. И ему кричали партии на ипподроме целый день: “Константин основал город, Кир его заново отстроил”. И разгневался на него царь, что они так кричали, и разжаловал его в клирики и послал его епископом в Смирну Асийскую. А жители того города уже убили четырех епископов, и [царь рассчитывал] что и Кира они убьют. И когда он прибыл в город на святое Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа, жители города Смирны, подозревая, что царь поставил его епископом, [обвинив] в язычестве, просили его произнести проповедь. Он же, понуждаемый ими, вышел, чтобы говорить. И призвав на них мир, начал говорить так: “Братья, Рождество Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа в молчании да чтится, ибо от одного слышания Он был зачат Святой Девой. Ему же слава во веки. Аминь”. И оставался там до его смерти» [Chronicon Paschale, 1832. P. 588–589].
⃰ Приск или Иоанн Малала.
⃰ ⃰ Префект претория Востока в 431–432 гг., консул 431 г. [Martindale, 1980. P. 103].
дения гуннов, ситуация была прямо-таки отчаянная. Однако Константин сумел восстановить стены в рекордный срок: всего за 60 дней. Об этом свидетельствуют две гекзаметрические эпиграммы, начертанные на разных воротах Феодосиевых стен и сохранившиеся в Палатинской антологии (PA 9, 690–691):
Стену воздвигли сию Востока царь Феодосий
И эпарх Константин, в шестьдесят всего дней уложившись.
И:
За шестьдесят всего дней по приказу ца-ря-скиптродержца
Стену сию Константин-эпарх успешно построил.
Возможно, наличие эпиграмм, а также факт строительства стен давали основания отождествлять Константина с Киром. Иоанн Зонара (IZ XIII 22.50) сообщает, что это Кир построил стены за 60 дней. Некоторые историки прошлого (Ш. Дюканж, Д. Византиос и др.) предполагали даже, что Кир в крещении принял имя Константин [Constantelos, 1971. P. 460].
Однако префект Флавий Константин – вполне идентифицируемая фигура, отдельная от Кира и сопоставимая с ним по влиятельности. Известно, что в 451 г. он присутствовал на Халкидонском соборе, что должность префекта претория Востока он занимал еще дважды: в 456 и в 459 гг., а также что в 457 г. он был консулом [Martindale, 1980. P. 317, 1256].
Между тем видно, что при Феодосии Константин после такого успеха и, можно сказать, спасения города от смертельной опасности повышения в должности не получил. Возникает вопрос: не к нему ли относилась аккламация на ипподроме? В тексте Малалы есть некоторая непонятность: «Константин основал, Кир заново отстроил. Поставь его на <это> место, август» (Κωνσταντῖνος ἔκτισε, Κῦρος ἀνενέωσε· αὐτὸν ἐπὶ τόπον, Αὔγουστε). Слово ἀνενέωσε «возобновил» гораздо лучше подходит к деянию Константина, восстановившего разрушенные стены, чем к деянию Кира, впервые обнесшего Константинополь морскими стенами. Может быть, смысл аккламации изначально был иной, и Константин – это не император, основавший город, а префект, восстановивший стены во время смертельной опасности, а сравнивали его именно с Киром, который эти стены построил? Тогда имена Кира и Константина просто поменяли местами, пытаясь придать смысл непонятному изречению. А слова «Поставь его на это место» применительно к Константину, префекту претория, будут означать требование поставить его префектом города, на должность, которую ранее занимал Кир, – чего Феодосий не сделал, и на следующий год префектом претория был уже Антиох Ху-зон Младший. Таким образом, возможно, что должности лишился не Кир, а Константин в 448 г. Не исключено, что именно этому и поспособствовал Хрисафий.
Что же касается Кира, то он благополучно достиг вершины карьерной лестницы, – выше подняться было уже невозможно. Может быть, и эпиграммы о Константине написал Кир, – в таком случае, он в то время еще оставался при дворе.
Во вступлении к истории Созомена, где историк восхваляет Феодосия, есть такие слова: «…Ты всегда изнутри облекаешься в истинное убранство царствования: благочестие и человеколюбие. Вот почему поэты, историки и наиболее важные из твоих градоначальников и другие подданные непрестанно трудятся над прославлением тебя и твоих действий» [Sozomenus, 1995. P. 2]. Не на Кира ли указывает историк? Во всяком случае, ассоциации именно с ним у Феодосия должны были возникнуть, и если ему они были нежеланны, политичный Созомен постарался бы избежать таких намеков.
В рассказе Малалы о том, как Феодосий позавидовал Киру и разгневался настолько, что сослал его в Котией фактически на верную смерть, поражает неадекватность меры. Действительно ли Феодосий II был таким царем-самодуром? Историки довольно единодушны в изображении его как царя милостивого. По словам Сократа, он вообще никого не казнил и отменял казни уже осужденных преступников (HE 7, 22, 9–11). Это, несомненно, преувеличение, но все же казни в правление Феодосия действительно немногочисленны. С другой стороны, известно, что Феодосий последовательно поддерживал в государстве баланс сил и никому из своих приближенных не давал возвышаться и приобретать статус временщика. Именно это искусное балансирование позволяло ему так долго находиться у власти [Kelly, 2013. P. 11]. Поэтому вполне правдоподобно, что аккламации относились не к Киру, а к Константину, которого царь на следующий год не повысил в должности, – но не более того. Точно так же возможное недовольство Киром, на которое указывает в цитированном выше отрывке Иоанн Лидиец, привело лишь к сокращению полномочий префекта и к завершению его карьеры, личная же месть Киру была уже излишней.
Прецедент изображения Феодосия царем-самодуром все же существует. Принадлежит он ересиарху Несторию, который как раз представляет царя гневливым до неадекватности и в то же время слабым в конфликте с патриархом Флавианом [Nestorius, 1925. P. 336]. Даже если здесь есть доля истины, нельзя не признать, что и Несторий в этой ситуации лицо пристрастное.
Возможно, к рассказу о Кире примешалась история еще одного известного человека.
Константелос, ссылаясь на «Историческую географию Малой Азии» Рамсея, говорит, что во Фригии христианство утверждалось с трудом, что там сохранял позиции монтанизм и что жители этих мест обладали определенной автономией и правом самостоятельно избирать епископов. В качестве центров этой «церковной оппозиции» названы Котией и Дорилей [Constantelos, 1971. P. 455].
Название «Дорилей» сразу напоминает об известном инициаторе Эфесского и Хал-кидонского соборов Евсевии Дорилейском. Известно, что на момент созыва Эфесского собора Евсевий служил при дворе в должности agens in rebus и что он обличал Нестория за ересь. После Эфесского собора о Евсевии ничего не известно вплоть до 448 г., когда он оказывается епископом Дорилейским и начинает новую кампанию, противоположную первой, по обвинению в ереси архимандрита Евтиха [Martindale, 1980. P. 430–431]. Как раз в отношении Евсевия Дорилейского Феодосий занимал самую жесткую позицию (на II Эфесском соборе он был низложен). Можно предположить, что Феодосий опасался Евсевия, видя в его действиях угрозу для своей власти 10. Во всяком случае, Евсевий, поднявший церковную смуту, гораздо больше заслуживал императорского гнева, чем Кир. История Евсевия Дорилейского тоже могла примешаться к повествованию о Кире. Возможно, и проповедь с упоминанием зачатия Христа Святой Девой на самом деле принадлежала не Киру, а Евсевию. Евсевий вполне мог оказаться в Дорилее после Эфесского собора на Рождество 432 г.
Если Кир был поставлен епископом Коти-ея при Феодосии, то он должен был бы присутствовать, по крайней мере, на II Эфесском соборе, а может быть, и на Халкидонском. Однако Кир, епископ Котиея Фригийского, нигде не упоминается (в указателе упомянуты Кир из Аназарба Киликийского, Кир из Афродисиады Карийской, Кир Вавилонский и Кир из Кибистр Каппадокийских; имя Константин также не дает ничего похожего) [Аcta Сonciliorum Оecumenicorum, 1938. P. 40].
Итак, получается, что повествование о Кире, талантливом администраторе, осу- жденном завистливым царем, просто скомпилировано из нескольких историй. Где границы этого смешения, точно сказать трудно.
Что же остается из сведений о ссылке Кира по исключении этих факторов? То, что он был обвинен в язычестве (эллинстве), что был сослан, когда Евдокия уже находилась в Иерусалиме, и что в Константинополь он вернулся в правление не Маркиана, а Льва. Относительно обвинений в язычестве Кэмерон писал, что термин «эллин» византийцы применяли к христианам с богословски сомнительными взглядами [Cameron, 2011. P. 192]. Возникает вопрос: если Кира сослал Феодосий из-за превышения должностных полномочий, то для чего ему нужно было подводить под ссылку такую «идеологическую базу»?
Предположение напрашивается само собой: может быть, Кир был сослан не Феодосием, а его преемниками? Причем сослан как раз по обвинению в идеологической неблагонадежности, за которым угадывается воля фанатичной и ригористичной Пульхерии. Поскольку осуждение еретиков предполагало уничтожение их книг, подобная участь могла постигнуть и сочинения Кира. Во всяком случае, так можно объяснить исчезновение его поэтического наследия и то, что стихотворение Кира сохранилось под именем Мелеагра (псевдоэпиграфы очень часто возникают там, где имя подлинного автора упомянуть невозможно по причине его осуждения). Подпись же «Кира, бывшего консула» указывает не на возвращение в Константинополь после смерти Феодосия, но на то, что при Феодосии Кир продолжал быть в почете 11.
Смерть Феодосия II и приход к власти Пульхерии таят некую загадку. Хотя у древних вроде бы нет сомнения в законности преемства Пульхерии, ряд обстоятельств указывает на то, что ее приход к власти был умело осуществленным военным переворотом, в котором даже сама она, возможно, играла лишь подчиненную роль [Александрова, 2016]. В любом случае по правилам, установленным еще Диоклетианом, закон- ным преемником Феодосия был его зять, август Валентиниан. Он, а не Пульхерия, имел право поставлять следующего августа. Известно, что Валентиниан долго не признавал Маркиана и хотел сместить его [Burgess, 1993–1994].
Учитывая эти обстоятельства, понятно, почему история правления Феодосия начинает откровенно переписываться в угоду новым правителям: путем принижения Феодосия возвышается Пульхерия и укрепляются ее права на наследование престола. Возможно, именно в этом процессе пострадало и творчество Кира, воспевавшего царствование Феодосия.
Возможно, есть и еще одно свидетельство о позиции Кира в этой истории. В Палатинской антологии за приведенной выше эпиграммой РА 15, 9 следует, может быть, фрагмент, а может быть, и целая эпиграмма из трех строк (РА 15, 10). В парижской части рукописи Палатинской антологии (Parisinus Suppl. Gr. 384, fol 26V) 12 фрагмент никак не отделен от эпиграммы Кира и выглядит как единое с ней целое. Вот этот стих:
Где мы свидетелей в море найдем? Поведайте, скалы,
Волны, поведайте всем, с какими бурями споря
Сломлен корабль, пала мачта и груз ко дну устремился.
Поскольку образ корабля-государства в античной поэзии привычен еще со времен Алкея, легко представить себе, что речь идет именно о крушении государства. Тематически этот текст перекликается с жалобой Кира (PA 9, 136) о своем изгнании. Но здесь содержание явно шире: поэт жалуется не на собственную несчастливую судьбу, а свидетельствует о глобальном бедствии, о котором не может даже донести весть. Если такая эпиграмма была написана после прихода к власти Пульхерии и Маркиана, уже она одна могла послужить поводом для ссылки автора. Если же Кир продолжал творить в таком духе, то понятно, почему подверглось уничтожению его наследие.
Осталось лишь сказать, почему вызывают сомнения свидетельства «Жития Даниила Столпника». Жития святых, как правило, весьма тенденциозны там, где затрагивается вероучение, и здесь возможны разнообразные трансформации, если они способствуют чистоте создаваемой картины. Очевидно, что автор жития по убеждениям является халки-донитом и оценивает исторических деятелей в зависимости от их отношения к православию. Так, покойный к тому времени император Лев, поддерживавший решения Халкидо-на, у него регулярно именуется «блаженным» и «благочестивым» (VD 22, 25, 27, 31, 38, 42, 44, 46, 53, 60, 65, 66, 67, 92), «блаженной» именуется и его жена Верина (VD 69); тоже покойный Зенон, стремившийся к примирению халкидонитов и миафизитов, упоминается без эпитетов как лицо случайное и незначительное (VD 55, 65, 66, 68, 69, 85, 91), по этому же принципу характеризуются и другие покойные правители. Здравствующему императору Анастасию дается восторженная характеристика, причем указывается, что его царствование предсказал прп. Даниил (VD 91), из чего можно заключить, что житие написано еще до того, как Анастасий встал на позиции миафизитов. В самых светлых красках рисуется и образ архиеписко-па-халкидонита Евфимия, который участвует в похоронах святого (VD 92, 96, 99, 100). Вероятно, автор жития и сам принадлежал к кругу архиепископа Евфимия и разделял его установки. С именем архиепископа Евфимия связывается памятник, дошедший лишь фрагментарно, Historia Euthymiaca. Это сочинение острополемической направленности, изобилующее тенденциозными трансформациями. В частности, негативно изображена в нем покровительница Кира, Евдокия, а благочестивые легенды, сложившиеся вокруг нее в халкидонитской среде, переадресованы ее противнице Пульхерии [Lourié, 2007].
В таком случае фигура Кира была для автора «Жития Даниила» пререкаемой, и если он хотел изобразить его как вполне положительного героя по связи со святым, то он должен был отделить его от «нечестивых» покровителей. Неудивительно, что в житии не упоминается, что Кир был придворным поэ- том Феодосия II (который для халкидонитов тоже оставался фигурой сомнительной), да и вообще не сказано, что он был поэтом, даже эпиграмма, несомненно, им сочиненная, ему не атрибутируется. Поэтому главным злодеем в истории Кира оказывается Хрисафий (на которого халкидониты обычно просто списывали все неприемлемые для себя поступки Феодосия), а история Кира опять-таки смешивается с историей Константина. Скорее всего автор передавал ту версию, которая бытовала в его среде.
Таким образом, история карьерного краха Кира, государственного деятеля, вобрала в себя несколько повествований и превратилась в своего рода притчу о благородном придворном и завистливом императоре, что лишь косвенно отражает историческую действительность, а поэзия Кира, тесно связанная с царствованием Феодосия II и его прославлявшая, в основном погибла в результате острой церковно-политической борьбы, охватившей империю в середине V в. Несомненно, гибель поэзии Кира из Панополя – одна из самых значительных и самых печальных культурных утрат этой эпохи.
Список литературы Судьба творческого наследия Кира из Панополя в свете его биографии
- Александрова Т. Л. Феодосий II и Пульхерия в изображении Созомена (к проблеме датировки «Церковной истории») // Вестник древней истории. 2016. № 2 (76). С. 151-166.
- Burgess R. W. The Accession of Marcian in the Light of Chalcedonian Apologetic and Monophysite Polemic // Byzantinische Zeitshrift. 1993-1994. Bd. 86-87. S. 46-68.
- Cameron A. The Empress and the Poet: Paganism and Politics at the Court of Theodosius II // Yale Classical Studies. 1982. Vol. 27. P. 217-289.
- Cameron A. The Last Pagans of Rome. Oxford: Oxford Univ. Press, 2011. 878 p.
- Constantelos D. Kyros Panopolites, Rebuilder of Constantinople // Greek, Roman and Byzantine Studies. 1971. Vol. 12. P. 451-464.
- Greatrex G., Bardill J. Antiochus the Praepositus: A Persian Eunuch at the Court of Theodosius II // Dumbarton Oaks Papers. 1996. Vol. 50. P. 171-197.
- Gregory T. The Remarkable Christmas Homily of Kyros Panopolites // Greek, Roman and Byzantine Studies. 1975. Vol. 16, pt 3. P. 317-324.
- Holum K. Theodosian Empresses: Women and Imperial Dominion in Late Antiquity. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1982. 260 p.
- Kelly C. Rethinking Theodosius // Theodosius II: Rethinking the Roman Empire in Late Antiquity. Cambridge; New York, 2013. P. 3-64.
- Lourié B. L'Histoire euthymiaque - l'œvre du patriarche Euthymios / Euphemios de Constantinople (430-496, 515) // Warszavskie Studia Teologiczne. 2007. Vol. 20, pt 2. P. 189-221.
- Martindale J. R. The Prosopography of the Later Roman Empire. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1980. Vol. 2. 1355 p.
- Tissoni F. Ciro di Panopoli riconsiderato (con alcune ipotesi sulla destinanione delle Dionisiache) / Nonno et i suoi lettori. Ed. by S. Audano // Hellenica. 2008. Vol. 27. P. 67-81.
- The Vita S. Danielis Stylitae / Ed. by N. Baynes // The English Historical Review. 1925. Vol. 40. No. 159 (July). P. 397-402.
- Whitby M. Writing in Greek: Classicism and Compilation, Interaction and Transformation // Theodosius II: Rethinking the Roman Empire in Late Antiquity. Cambridge; New York, 2013. P. 195-218.