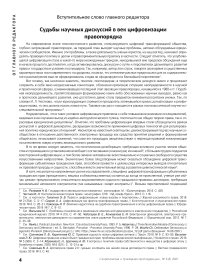Судьбы научных дискуссий в век цифровизации правопорядка
Автор: Разуваев Н.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Статья в выпуске: 2 (8), 2021 года.
Бесплатный доступ
ID: 14121117 Короткий адрес: https://sciup.org/14121117
Текст ред. заметки Судьбы научных дискуссий в век цифровизации правопорядка
На современном этапе технологического развития, стимулируемого цифровой трансформацией общества, глубоко затронувшей правопорядок, на передний план выходят научные проблемы, активно обсуждаемые юридическим сообществом. Именно эти проблемы, а также деятельность ученых-юристов, на наш взгляд, начинают определять правовую политику в целом и правоприменительную практику в частности. Следует отметить, что углубляющаяся цифровизация стала в какой-то мере неожиданным трендом, находившимся вне пределов обсуждения еще в начале прошлого десятилетия, когда активизировались дискуссии о путях и перспективах дальнейшего развития права и государства в условиях постмодерна. Так, например, автор этих строк, говоря в свое время о существенных характеристиках постсовременного государства, полагал, что интеллектуальные предпосылки для их содержательного рассмотрения еще не сформировались и едва ли сформируются в ближайшей перспективе1.
Вот почему, как несложно заметить, понятие «постмодерна» в теоретическом дискурсе имело и продолжает сохранять в себе явно неоднозначные коннотации, обозначая кризисную ситуацию неопределенности в научной и практической сферах, ознаменовавшую последний этап эволюции правопорядка, начавшийся в 1980-х гг. Подобная неопределенность, препятствовавшая формированию каких-либо обоснованных научных выводов, равно как и прогнозов дальнейшего развития, уже достаточно давно стала предметом внимания российских ученых. Так, по словам И. Л. Честнова, «если юриспруденция стремится преодолеть затянувшийся кризис догматизации и реифи-кации права, то она должна искать новые пути. Таковые как раз и находятся в рамках постклассической научно-исследовательской программы»2.
Неудивительно, что в таких условиях цифровизация привлекла к себе повышенное внимание исследователей, видевших в ее изучении выход из идейно-методологического тупика, постигшего как общую теорию права, так и отраслевые юридические дисциплины3. Отметим, что проблемы цифровизации впервые стали обсуждаться в рамках дискуссий о цифровой демократии, раскрывших возможности применения цифровых технологий для регулирования политико-юридических отношений4. Несмотря на известный скептицизм, демонстрируемый подчас научным сообществом в отношении действенности электронных процедур как средства принятия решений и формирования общей воли, не вызывает сомнений, что сами эти процедуры свидетельствуют о переходе правовой коммуникации на качественно новую ступень эволюционного развития.
В то же время следует заметить, что политическая делиберация, требующая активного участия членов общества и стремящаяся к установлению всеобщего согласования (консенсуса) их мнений5, с большим трудом поддается всесторонней цифровизации, а тем более замене человека как экзистенциально и социально свободного существа искусственными нейросетями. Значительно более плодотворным может оказаться обсуждение цифровой трансформации субъективных гражданских прав, способное привести к целому ряду интересных выводов относительно их правовой природы и сущности, способных внести значительный вклад в развитие цивилистической науки6.
И хотя, несмотря на напряженные усилия исследователей, специфика цифровой трансформации субъективных гражданских прав (прежде всего, вещных и обязательственных) остается до конца не проясненной, ученые уже сейчас делают предположения относительно видоизменения сущности гражданско-правовых договоров, требующих минимальной активности контрагентов (так называемые «смарт-контракты»)7. Весьма перспективной тенденцией динамики системы гражданского права является и цифровизация личных неимущественных прав, способствующая конструированию новых участников правовой коммуникации и появлению субъектов права, которые ранее не обладали свойствами правосубъектности.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Речь идет об искусственном интеллекте, который в рамках традиционной парадигмы рассматривается в качестве базы данных и является объектом, а не субъектом гражданских прав. Выявление места искусственного интеллекта в системе современного правопорядка, на наш взгляд, требует либо полного отказа от идеи свободы как движущей силы юридической коммуникации, что было бы губительным для права как такового, либо переосмысления идеи свободы, утверждающего ее непреходящую ценность в новых условиях. Представляется, что именно последний вариант является предпочтительным и раскрывающим глобальные перспективы эволюции правопорядка в век высоких технологий, стимулирующих парадоксальные иллюзии о способности общества полностью устранить человеческий фактор из механизмов своего развития. Думается, однако, что все ранее сказанное неоспоримо свидетельствует, что именно право служит последним оплотом человечности в бушующем океане технологического детерминизма, что дает основания для хоть и осторожного, но тем не менее уверенного оптимизма относительно непреходящего значения человеческих достоинства и свободы в цифровую эпоху.
Итак, мы видим, что цифровая трансформация общества, права и государства раскрыла новые, подчас неожиданные перспективы развития, но вместе с тем выявила вызовы, ответ на которые должна дать человеческая цивилизация. К числу таких вызовов в первую очередь относятся деперсонификация, анонимизация и, как следствие, утрата взаимного доверия участников правового общения. На этом фоне у некоторых наблюдателей возникает непреодолимое искушение декларировать не только «смерть субъекта», что является тенденцией далеко не новой, поскольку такого рода воззрения высказывались еще Ф. Ницше и М. Фуко8, но и кончину правовой науки, в которой якобы не будет необходимости, когда место автономной воли физических лиц, проявления которой требуют теоретического и философского осмысления, займут пресловутые «нейросети».
В такой ситуации редакция видит основную миссию журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция» в том, чтобы всемерно стимулировать продуктивные научные дискуссии вопреки ложному алармизму, пророчащему скорое исчерпание проблематики юридического познания. Одновременно редакция журнала твердо намерена противостоять попыткам протащить под знаменем «чистой науки» политические лозунги, подменяющие исследовательскую программу той или иной идеологической повесткой. В этом мы руководствуемся принципом объективности, сформулированным М. Вебером, по словам которого: «Журнал не может быть ареной “возражений”, реплик и ответов на них; но он никого… не защищает от объективной научной критики, какой бы резкой она ни была. Тот, кому данные условия не подходят, кто полагает, что сотрудничать с людьми, идеалы которых не совпадают с его собственными, невозможно и в области научного знания, пусть лучше остаются в стороне»9.
Вот почему и наш журнал неизменно будет оставаться в стороне от тех, кто, стремясь дискредитировать идею прав и свобод человека, закрепленных в числе прочего в Конституции Российской Федерации10, использует для этого лозунги академических прав, свободы мнений, мысли и слова, эксплуатируемых исключительно с целью утверждения собственных идеологических позиций. И вместе с тем журнал «Теоретическая и прикладная юриспруденция» будет уделять неизменное внимание актуальным проблемам теории права и отраслевых юридических дисциплин, изучение которых проливает свет на закономерности развития правопорядка в условиях цифровизации. Думается, что содержание очередного номера журнала, представленного вниманию читателей, со всей непреложностью свидетельствует об этом.
Главный редактор
Разуваев Николай Викторович