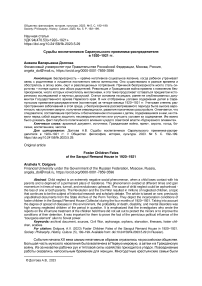Судьбы воспитанников Сарапульского приемника-распределителя в 1920-1921 гг
Автор: Долгова Анжела Валерьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
Беспризорность - крайне негативное социальное явление, когда ребенок утрачивает связь с родителями и лишается постоянного места жительства. Оно существовало в разные времена и обострялось в эпоху войн, смут и революционных потрясений. Причиной беспризорности могло стать сиротство - потеря одного или обоих родителей. Революция и Гражданская война привели к появлению беспризорников, число которых исчислялось миллионами, и эта тема продолжает оставаться предметом исторических исследований и научных дискуссий. Статья основана на редких, ранее не опубликованных документах Государственного архива Пермского края. В них отображены условия содержания детей в Сарапульском приемнике-распределителе (коллекторе) за четыре месяца 1920-1921 гг. Учитывая степень распространения заболеваний в этой среде, у беспризорников рассматриваемого периода была высока вероятность наступления смерти, получения инвалидности, развития психических расстройств. Отмечается, что следователи, составлявшие протоколы о бесчеловечном отношении к детям, содержавшимся в нем, не ставили перед собой задачи защитить несовершеннолетних или улучшить условия их содержания. Им важно было доказать факт пагубного политического влияния чуждого советской власти «буржуазного элемента».
Архивный документ, источники, гражданская война, приют, сироты, голод, болезни, воспитанники, чесотка
Короткий адрес: https://sciup.org/149143056
IDR: 149143056 | УДК: 94(470.53)«1920-1921» | DOI: 10.24158/fik.2023.5.29
Текст научной статьи Судьбы воспитанников Сарапульского приемника-распределителя в 1920-1921 гг
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
практически обречены. Резкое падение уровня жизни привело к пауперизации всего населения. Происходило разрушение нравственных устоев и семейных ценностей. Безработица, массовый голод 1920–1921 гг., эпидемии, высокая смертность стали причинами катастрофической по своим масштабам проблемы беспризорности (Долгова, 2023). Рассмотрим подробнее общественно-политический фон, послуживший обострению ситуации.
Во-первых, провозглашенный и узаконенный большевиками красный террор был направлен против представителей «непролетарского происхождения». Дети из благополучных семей могли попасть в приемники-распределители еще при живых родителях с последующим применением к последним репрессивных мер – расстрела или высылки. Здесь же отметим и карательную политику антибольшевистских сил в отношении красноармейцев, что также могло стать причиной сиротства. Например, в архивных документах можно встретить следующие формулировки: «положение безвыходное – отец расстрелян, мать бросила»1, «мать больна сыпным тифом, отца расстреляли белые за сочувствие большевикам»2.
Во-вторых, принудительные мобилизации лишали многодетные крестьянские семьи рабочих рук, в результате чего они оставались без средств к существованию и вынуждены были распадаться, дети, если не погибали, оказывались на улице предоставленными сами себе.
В-третьих, потеря родных могла быть вызвана близостью населенного пункта к линии фронта, где часто происходили боевые действия.
В-четвертых, иногда родители добровольно отдавали своих детей в детский дом в результате разных жизненных обстоятельств: голод, тяжелая болезнь, отсутствие постоянного заработка. Но обычно в этом случае близкие родственники стремились вернуть детей при первой возможности.
В-пятых, разлад в семье, частые ссоры также становились причиной передачи ребенка в детский дом (Крутова и др., 2016).
В истории было три масштабных волны беспризорства: в годы Гражданской войны, Великой Отечественной и после распада СССР (Гладыш, 2015).
К 1921 г. в России насчитывалось 4,5 млн. беспризорников, а к 1922 г. – уже около 7 млн (Войткевич, 2012). Масштабы и последствия этого крайне негативного социального явления достигли той степени, при которой на уровне руководства страны не было понимания, как бороться с ним. Нормативно-правовая база разрабатывалась и внедрялась методом проб и ошибок. Создание первых советских учреждений и подбор кадров требовали финансовых и материальных ресурсов, которых в годы Гражданской войны не было. Бороться с беспризорностью в полной мере, равно как и с другими негативными социальными явлениями, стало возможным лишь после нормализации обстановки в социуме. В военное время остановить распространение уголовщины могли только репрессивные меры в виде принудительного помещения беспризорных детей в трудовые колонии и лагеря для взрослых (Филоненко, Менжулин, 2020).
На государственном уровне решение проблемы началось с таких декретов и постановлений, как «О комиссиях о несовершеннолетних»3, «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных действиях»4, «Об учреждении Совета защиты детей»5.
С самых разных сторон проблему изучали партийные деятели (А.В. Луначарский, Н.К. Крупская), педагоги (А.С. Макаренко, П.П. Блонский, В.И. Куфаев), социологи (Е.С. Лившиц, М.Е. Левитина). Особое внимание уделялось вопросам образования и трудоустройства беспризорников (Кожевникова, Безверхова, 2022).
В настоящее время тема беспризорности и сиротства в исторической науке остается слабо изученной. Работы носят, в основном, обобщающий (Савенкова, Рыжкова, 2020; Потепалов, Чер-нышков, 2015; Ефимова, 2016) или историографический характер (Афанасова, 2009; Славко, 2011). Отчасти это связано с тем, что многие дела были ранее засекречены и недоступны исследователям, поскольку противоречили советской идеологии. Все, что было связано с темой репрессий, замалчивалось.
Архивные материалы – едва ли не единственные источники, которые могут пролить свет на реальное положение дел в государственных учреждениях для беспризорников разных регионов. Документы по теме не систематизированы, их можно обнаружить в разных фондах рассматриваемого периода. В основном это делопроизводственная документация детских учреждений, отчеты различных комиссий, протоколы собраний, совещаний, конференций, обсуждавших вопросы борьбы с беспризорностью.
В результате доступа к архивным документам появились работы, посвященные теме беспризорности и сиротства на региональном уровне (Блинов, 2016; Захарова, 2012; Саплинова, 1998; Шорова, 2018). Подобные исследования помогают воссоздать реальное положение дел в детских учреждениях периода Гражданской войны, так как касаются разных территорий распространения беспризорности как социального явления в стране.
В.С. Юрченко, рассматривая проблему беспризорности в Севастополе, прямо говорит, что законодательная база для урегулирования ситуации еще не была сформирована, городские власти не справлялись с потоком беспризорников, имело место хаотичное формирование сети детских учреждений и организаций (Юрченко, 2020).
Заслуга региональных исследователей состоит в том, что им удалось выделить ряд последствий беспризорности, доказать ее пагубное воздействие на общество: описана высокая детская смертность от истощения и инфекций, распространение уголовных преступлений, тунеядства, детской проституции.
В соответствии с Декретом ВЦИК «О единой трудовой школе РСФСР» в губерниях вопросы, связанные с попечительством, должны были решаться Отделом народного образования, созданным 27 января 1918 г., а с 1923 г. – Окружным отделом народного образования1.
22 июля 1921 г. вышло постановление Наркомпроса «О детских домах», согласно которому в созданные учреждения принимались дети-сироты в возрасте от 4 до 18 лет. Но выделяемых средств на их содержание и поддержку было недостаточно. Детские дома были «душегубками», своего рода местом, где несовершеннолетние были обречены на медленную смерть от истощения и болезней, становились жертвами насилия и даже убийства. Все эти несчастья стали признаком времени.
Особенно тяжело – морально и физически – было тем детям, которые попадали в детские дома из благополучных семей. Резкая смена привычной обстановки самым неблагоприятным образом сказывалась на их здоровье.
В фондах Государственного архива Пермского края хранится «Дело по обвинению Г.А. Смирнова, заведующего Сарапульским детским коллектором-распределителем, в антисоветской агитации и избиении детей»2. Оно состоит из трех частей: «Тетрадь для записей осмотра распределителя при посещении школьно-санитарным врачом, администрацией и ревизионной комиссией с 1 декабря 1920 г.»; протоколы допросов заведующего коллектором; показания пострадавших детей от побоев и грубого обращения. Записи в «Тетради» велись по трем пунктам: «какие найдены дефекты, какие желательны изменения, примечание»3.
Целью нашего исследования являлось изучение реальных условий содержания детей в данном учреждении как типовом для страны того исторического периода.
Объект исследования – сироты, попавшие в приемник-распределитель.
Предмет исследования – условия содержания детей в государственном учреждении в 1920–1921-х гг.
В качестве метода исследования был использован проблемно-хронологический, поскольку необходимо было обратиться к поиску источника и дальнейшего развития данного явления в условиях Гражданской войны.
Применение принципа историзма, социального и регионального подходов способствовали установлению условий содержания детей в советском учреждении, анализу социальной среды, особенностей взаимоотношения в ней беспризорных детей со сверстниками и взрослыми, рассмотрению широкого спектра заболеваний и методов их лечения, влияния идеологии, принципов воспитания.
Анализ данных, содержащихся в «Деле по обвинению Г.А. Смирнова, заведующего Сарапульским детским коллектором-распределителем, в антисоветской агитации и избиении детей» (далее – «Дело») позволил раскрыть суть проблемы с разных сторон и обозначить отсутствие материальных и финансовых средств, необходимых для поддержания нормальных условий содержания детей, антисанитарию, высокий уровень заболеваемости (возможно, и смертности), отсутствие надлежащего присмотра, бесправное положение детей как типичные черты социальной ситуации периода 1920-х гг.
Документы, сохранившиеся в «Деле», свидетельствуют о сложных взаимоотношениях в коллективе, раскрывают трагедию внутреннего мира ребенка, показывают жуткую картину сложившейся обстановки в совершенно новых, наспех создаваемых по всей стране учреждениях, именуемых детскими домами, приемниками-распределителями и коллекторами. Многие из них уже в то время стали носить имена К. Маркса и Ф. Энгельса. Наступала новая эра.
Первая часть «Дела» – «Тетрадь» – уникальный источник, в котором зафиксированы сведения о том, какими болезнями страдали дети и как их лечили.
Распределитель, или коллектор, в течение четырех месяцев – с декабря 1920 г. по март 1921 г. – посещали врач Бушмакина, лекарский помощник (лекпом) Красноперов, которые и внесли в «Тетрадь» соответствующие записи о состоянии здоровья детей в возрасте от 2 до 14 лет. Всего осмотрено было около шестидесяти несовершеннолетних. На основании сохранившихся данных можно сделать вывод о том, что дети находились в критическом состоянии. Можно также предположить, что многие попадали в коллектор вполне здоровыми, а болеть начинали позже, подхватывая инфекцию от заразных детей.
Результаты осмотра детей и последующие рекомендации по лечению вызывают недоумение. У шести воспитанников была обнаружена чесотка. В качестве средства лечения лекпом Красноперов прописал: «Желательно чаще смена белья и мыло», а в графе «Примечание» сделал пометку: «Перевод из распределителя в новое помещение»1.
А вот результаты осмотра от 7 января 1921 г.: «Детям второй раз выписано лекарство. Состояние больных чесоткой улучшилось. Чесотка проходит. У некоторых кашель. Выписано лекарство. Жалоб нет. Состояние детей удовлетворительное»2. Заключение об «улучшении» состояния больных чесоткой и то, что она «проходит» – весьма сомнительно.
Но чесотка в детском коллекторе была не самым страшным недугом. Здоровье детей подрывало низкое качество пищи. О сбалансированном питании не могло идти и речи. Дистрофия, малокровие, глисты, расстройство кишечника – лишь некоторые последствия недоедания и употребления продуктов сомнительного происхождения.
В записях от 27 февраля 1921 г. зафиксированы поражающие воображение свидетельства отвратительного питания детей: «Дети жалуются, что после овсяного хлеба у них в зубах остается много шелухи от неободранного овса и возникает боль в животе. Желательно заменить хлеб хотя бы наполовину черным хлебом, так как один овсяный хлеб для детского организма не годится ввиду появления у детей поноса, сменяющегося запором, и могут быть аппендициты»3.
Лучшее, на что могли рассчитывать воспитанники, это овсяный хлеб. Не исключено, что в коллекторе имела место высокая смертность. По результатам осмотра от 3 марта 1921 г. были выявлены заболевания не только среди детей, но и служащих коллектора: «Больная четыре дня тяжелой формой инфлуэнзы – заведующая хозяйством Смирнова. Осмотрены все дети. Усилить питание воспитанникам Ижболдину, Жилину… Крайне слабый, истощен»4. Или: «Шестанов Николай, 10 лет. Мокнущий лишай головы. Рекомендована цинковая мазь»5.
Таким образом, условия содержания детей в Сарапульском коллекторе оставляли желать лучшего. Дети не получали ни полноценного питания, ни ухода, ни надлежащего воспитания.
Директор коллектора Смирнов Григорий Алексеевич к детям относился не иначе, как к рабочей силе, которую он без зазрения совести использовал при уборке помещений как в учреждении, так и у себя дома. Судя по прилагаемым документам, он был убежденным противником советской власти.
Согласно данным опросного листа, а также сохранившейся в деле паспортной книжки, Смирнов родился 9 января 1869 г. в г. Акши Акшинского уезда Забайкальской области: «По профессии юрист. Образование высшее. Классовое происхождение: личный дворянин из духовного звания. Ратник ополчения. Член союза работников просвещения. До революции служил в Петрограде столичным мировым судьей. Под стражей находился два месяца»6.
10 сентября 1920 г. следователем Пермского губревтрибунала было рассмотрено дело по обвинению Г.А. Смирнова в антисоветской агитации и избиении подростков.
Информация об этом поступила в Сарапульское политбюро: «Заведующий распределением детского коллектора пролетарских детей Смирнов занимается противосоветской агитацией среди вверенных ему детей, вследствие чего один из мальчиков, Еремеев, выходя однажды после собрания, воскликнул: “Долой коммунистов!”»7.
В результате проведенного в квартире Смирнова обыска было сделано заключение: «Никаких доказательств противоправительственной деятельности обнаружено не было, но зато найдено и отобрано 2 446 рублей николаевских денег, 1 070 рублей керенских, 4 золотых ордена, золотая брошь с камнями, медальон серебряный с цепочкой, два обручальных золотых кольца, золотая брошь с тремя бриллиантами, золотое кольцо с двумя бриллиантами, кольцо с тремя бриллиантами, дамские золотые часы»1.
Следователь Пермского губревтрибунала пришел к заключению: «Смирнов виновным себя не признал, объяснив, что всегда относился к своим обязанностям добросовестно и детей не обижал. Относительно же Переперко был лишь случай, когда он сильно потряс его за руку за то, что тот бросался хлебом. На основании изложенного, я, следователь-докладчик, полагал бы Смирнова Григория Алексеевича, 52 лет, предать суду Пермского губревтрибунала по обвинению его в том, что, состоя в означенной должности, он грубо обращался с вверенными ему детьми и побил мальчиков Переперко, Кочанова и Костенкова, чем дискредитировал принцип социального воспитания и подорвал доверие населения к органам народного образования»2.
27 декабря 1921 г. следователь Сарапульского политбюро на основании показаний пострадавшего подростка Михаила Переперко составил протокол: «Вопрос. Скажите, товарищ Пере-перко, как относился к вам гражданин Смирнов, когда вы находились в распределителе детского коллектора?
Ответ: «В детском коллекторе я находился два месяца – с июня по август 1921 г. За это время я могу констатировать, что наш заведующий относился к нам весьма грубо, часто наказывал и бил. Смирнов наказал на неделю мыть полы тринадцатилетнюю девочку Теплых Шуру, которая наказание исполнила. Побил моего братишку Переперкина Виктора, завел в свою комнату, там и положил. Когда Виктор вышел из комнаты Смирнова, то сильно плакал. Побил мальчиков Виктора Кочанова, который в настоящее время находится в детском доме № 2, Костенкова Макара, который в настоящее время находится в распределителе детского коллектора. Ругал он нас за малейшие проступки сволочью, бесами и красноармейцами, за это мы его боялись как какого-то жандарма. Протокол мне прочитан»3.
Уполномоченный секретного отдела Сарапульского политбюро Пермской ГубЧК пришел к следующему заключению: «Рассмотрев дело по обвинению гражданина Смирнова, 52 лет, сына священника, в антисоветской агитации, в грубом отношении и избиении вверенных ему пролетарских детей, нашел, что Смирнов, будучи сам по происхождению из класса буржуазии, не мог по своей внутренней психике равнодушно относиться к пролетарским детям. Относился с дерзостью, со старожандармскими выходками, называя в обращении детей нередко красноармейцами, безбожниками, бесами и сволочью. Следствием установлены факты избиения и наказания следующих детей: 9-летнего мальчика Переперко Виктора Николаевича – за то, что последний играл хлебом, Смирнов заводит к себе в комнату и бьет кулаками. 13-летнюю девочку Теплых Александру без всякого поступка Смирнов наказывал мыть полы в его квартире – в столовой и в коридоре на целую неделю. Последняя наказание исполняет в точности, работая с субботы до понедельника. И к тому же Смирнов таковую эксплуатировал, заставляя ежедневно мыть свою любимую собаку и ухаживать за ним вроде домашней прислуги. Сильно ругал за то, что последняя раздала весь обед детям, не оставив собаке, и при этом сказав, что ″вы должны были сперва накормить собаку, а потом детей″. Побил мальчика Виктора Кычанова и Костенкова Макара, что, несомненно, портило жандармскими выходками Смирнова нравы подрастающего поколения и шло против Рабоче-крестьянского правительства. Вышеизложенным недопустимым выходкам по отношению к детям в РСФСР гражданин Смирнов дискредитировал в глазах населения благие начинания Советской власти по воспитанию детей пролетариата в чисто советском духе и неиспорченной нравственности, чем создавал негодование со стороны общественной массы, от чего могла сгущаться контрреволюционная атмосфера»4.
Пострадавший Переперко Виктор показал: «Смирнов меня бил, ударив два раза по щеке. Это был один случай. Он бил меня за то, что один мальчик бросил в меня хлебом, тогда он позвал к себе в комнату. Это я хорошо помню»5.
Из показаний воспитанницы коллектора Теплых Александры: «Нам пол в детском доме приходилось мыть самим. У Смирнова я мыла, но сколько раз – не помню. Я вообще у него убиралась. За работу я получала некоторые вещи. Собаку у него мыла – сколько раз – не помню. Он меня не просил мыть ее. Я жила и работала, как прислуга, но числилась как воспитанница.
Смирнов меня не наказывал. Меня однажды наказали за то, что мы с одной девочкой поссорились, меня заставили мыть пол, но не в комнате Смирнова»1.
Сам же Смирнов объяснил произошедшее следующим образом: «Теплых Александра у меня в квартире действительно делала уборку. Она не работала по уборке коллектора, а работала у меня в порядке трудовой повинности. Я мог брать детей тех, которые на очереди по уборке всего помещения, но я их не брал, опасаясь кражи, а Теплых я доверял. Собаку она у меня действительно мыла несколько раз. Однажды я ей велел приготовить теплой воды, но не велел мыть собаку, а сам ушел. Возвращаясь через некоторое время в квартиру, Теплых мне говорит, что “собачку я уже вымыла”. На это я сказал: “Зачем ты вымыла, ты не умеешь мыть, я сам ее хотел мыть”. Однажды я у нее спросил, остался ли суп, она говорит: “Да”. Тогда я спросил: “Собачке дала?”. Она ответила: “Нет, я вылила”. Тогда я ей сказал, что это свинство, а не назвал ее свиньей. Ордена не сдал лишь потому, что не знал, что надо сдавать»2.
Следствие длилось до 1922 г. Окончательный приговор Пермского губревтрибунала был следующим: «Подвергнуть общественно-принудительным работам с содержанием под стражей в исправительном доме сроком на два года, с зачетом предварительного заключения в два с половиной месяца»3.
Следователи, составлявшие протоколы о нарушениях в коллекторе, не ставили перед собой задачу защитить права детей или улучшить их условия содержания. Для них было важным доказать факт пагубного политического влияния «классово чуждого» руководителя. С этой целью и были сфабрикованы протоколы, в которых подчеркивалось ненадлежащее отношение руководителя коллектора к советской власти.
Если рассматривать ситуацию по Пермской губернии в целом, то анализ архивных данных за тот же период показал, что большинство детей попадали в детские дома по просьбе их родителей. Дело в том, что в то время население губернии страдало от эпидемии тифа. Заболевшие родители вынуждены были уходить с работы, теряя при этом единственный источник дохода. Сохранилось множество заявлений в отдел народного образования с просьбой устроить детей в детский дом. Те, кому посчастливилось выздороветь, обращались с заявлениями уже о возврате детей. Общая тенденция была такова, что если у ребенка были родственники, то, как правило, они стремились забрать детей. При этом заявления содержали еще одну просьбу – обеспечить детей необходимой одеждой и обувью.
Боязнь лишиться дохода была не единственной причиной сдать ребёнка в детский дом. Случалось так, что заработок сам по себе был недостаточным для жизнеобеспечения многодетных семей. Положение таких семей осложнялось потерей отца по причине его ухода на фронт либо гибели.
Что касается осиротевших детей, то, повзрослев, они стремились как можно скорее покинуть стены данных учреждений. Одной из таких возможностей для молодых людей была служба в Красной армии, для девушек – замужество. Выросшие дети, сумевшие в стенах казенных учреждений получить основы какой-либо профессии, пытались устроиться на работу и начать самостоятельную жизнь. Однако мало кому из воспитанников детских домов, сумевших пережить годы Гражданской войны, удавалось найти место в обществе. Отсутствие образования, воспитания и, самое главное, лишенность родительской любви, препятствовали правильному формированию личности, гражданского самосознания и восприятию себя частью общества. Условия содержания в коллекторах явно способствовали тому, что многие их «обитатели» выходили во взрослую жизнь с неустойчивой психикой, неспособными стать полноправными членами общества. Это было потерянное поколение сломанных судеб, в котором не было места человеколюбию.
Список литературы Судьбы воспитанников Сарапульского приемника-распределителя в 1920-1921 гг
- Афанасова Е.Н. Детская беспризорность в отечественной историографии 1920-1930-х гг. // Иркутский историко-эко-номический ежегодник. Иркутск, 2009. С. 449-451.
- Блинов М.Л. Из истории социальных отношений в Ижевске в 1920-е гг.: борьба с хулиганством, пьянством и детской преступностью // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2016. № 3. С. 31-42.
- Войткевич И.Н. История беспризорности в России в 20-е годы XX века // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 2. С. 17-21.
- Гладыш С.Д. Детская беспризорность - беда и позор // Защита и безопасность. 2015. № 1 (72). С. 44-46.
- Долгова А.В. «Играет в кафе и ходит по домам как музыкант...». Жизнь детей, оставшихся без попечения родителей в Пермской губернии в 1920-х гг. // Клио. 2023. № 4 (196). С. 78-86. https://doi.org/10.51676/2070-9773_2023_04_78.
- Ефимова Л.С. Детская беспризорность как социально-экономическое явление 1920-х гг. // Педагогический поиск. 2016. № 11-12. С. 68-71.
- Захарова Т.В. Реализация основных принципов государственной политики по сокращению детской беспризорности в Горном Алтае в 1920-е гг. // Мир Евразии. 2012. № 1 (16). С. 23-26.
- Кожевникова А.М., Безверхова С.В. Борьба с детской беспризорностью в первое десятилетие советской власти // Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2022. № 3. С. 96-103.
- Крутова Е.А., Беляева Т.В., Максимова В.Н. Создание специальных учреждений для борьбы с детской беспризорностью в 1920-х гг. // Труды Братского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2016. Т. 1. С. 50-53.
- Потепалов Д.В., Чернышков В.В. Дискуссионные вопросы истории детской беспризорности в России в 1920-1930-е гг. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2015. № 4 (99). С. 29-33.
- Савенкова Н.Н., Рыжкова О.В. Борьба с беспризорностью: государственная политика в интересах детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации // Известия Тульского государственного университета. Педагогика. 2020. № 3. С. 52-56.
- Саплинова М.С. Борьба с беспризорностью в Омске в 1920-е гг. // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 1998. № 6. С. 405-406.
- Славко А.А. Источники по истории детской беспризорности и безнадзорности в России 1920-х - начала 1950-х годов // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2011. № 1. С. 151-155.
- Филоненко Т.В., Менжулин В.А. Из опыта борьбы с детской беспризорностью в Воронежской губернии в 1920-е годы // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2020. № 4 (289). С. 147-152. https://doi. org/10.47438/2309-7078_2020_4_147.
- Шорова М.Б. Борьба с детской беспризорностью в Северо-Кавказском крае в 1920-е гг. // Электронный журнал «Кав-казология». 2018. № 4. С. 76-91. https://doi.org/10.31143/2542-212X-2018-4-76-91.
- Юрченко В.С. Проблема детской беспризорности в Севастополе в 1920-е годы // Причерноморье. История, политика, культура. 2020. № 30. С. 21-34. https://doi.org/10.35103/SMSU.2020.29.43.002.