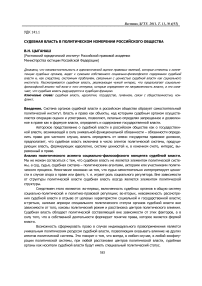Судебная власть в политическом измерении российского общества
Автор: Цыганаш Вадим Николаевич
Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu
Рубрика: Социально-экономические и общественные науки
Статья в выпуске: 4 (55) т.11, 2011 года.
Бесплатный доступ
Доказано, что несамостоятельность в идеологической оценке правовых явлений, которые отнесены к компетенции судебных органов, ведет к сужению собственного социально-философского содержания судебной власти и, как следствие, системным проблемам, связанным с ценностью судебной власти как социального института. Рассматривается судебная власть, реализующая чужой интерес, что предполагает социально-философский анализ той воли и того интереса, которые определяют ее направленность власти, а это означает, что судебная власть редуцируется в судебную функцию.
Судебная власть, идеология, государство, гуманизм, связи с общественностью, конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/14249591
IDR: 14249591 | УДК: 141.1
Текст научной статьи Судебная власть в политическом измерении российского общества
Введение. Система органов судебной власти в российском обществе образует самостоятельный политический институт. Власть и право как объекты, над которыми судебным органом осуществляются операции оценки и усмотрения, позволяют, легально определяя запрещенное и дозволенное в праве как в формуле власти, определять и содержание государственной власти.
Авторское представление о судебной власти в российском обществе как о государственной власти, возникающей в силу уникальной функциональной обязанности – обязанности определить право для частного случая, власть определить от имени государства правовое должное, предполагает, что судебная власть включена в число агентов политической системы, продуцирующих власть, формирующих идеологию, систему ценностей и, в конечном счете, интерес, выраженный в праве.
Анализ политического аспекта социально-философского концепта судебной власти. Мы не можем согласиться с тем, что судебная власть не является элементом политической системы, а суд, судья, судебная система – политическими агентами, акторами или участниками политического процесса. Несогласие основано на том, что судья самостоятельно интерпретирует ценности в случае спора о праве или факте, т. е. играет роль социального регулятора. Вне зависимости от структуры политической власти судебная власть всегда является элементом политической структуры.
Следствием этого являются: во-первых, включенность судебных органов в общую систему социально-политической и политико-правовой регуляции; во-вторых, невозможность рассмотрения судебной власти в отрыве от целевых характеристик социальной и государственной власти; в-третьих, наличие априори специального политического статуса органов судебной власти вне зависимости от того, каковы политический режим и расстановка центров политического влияния. Судебная власть обладает политической составляющей вне зависимости от этих факторов, а в силу того, что в собственной деятельности формирует понятие права, которое является формой власти.
Возможность сформировать право в случае индивидуального правоприменения является уникальным политическим ресурсом судебной власти, позволяющим оказывать влияние на других агентов политической системы. Это говорит о том, что всегда, в любом случае, в любой конфигурации политической системы, при любой расстановке центров политической власти, судебные органы как носители судебной власти будут иметь специальный политический статус.
Если судебную власть понимать как вид политической власти, а судебную систему, соответственно, как политический институт, то схема политической объективации связана с институциональной формой существования российской судебной власти.
Политический статус судебной власти в российском обществе с содержательной точки зрения определяется единством понимания должного как неправового, социального понятия с другими политическими акторами и институтами, уполномоченными обществом выражать в праве государственную волю и государственный интерес. Совпадение понятия должного является граничным критерием единства государственной власти и ее эффективности.
Совпадение или несовпадение должного в процессе оценки правового явления, события или факта связаны с тем, что судебный акт, будучи формальным актом актуализации государственной власти, обнаруживает качества преюдициальности только лишь в случае абсолютного совпадения фактов и обстоятельств двух конфликтных правовых ситуаций. Во всех других случаях преюдициальность судебной нормы условна и, в самом общем случае, зависит от судебного усмотрения, в котором сосредоточивается понятие свободы как обязательного условия существования власти как таковой. Требования единства государственной воли предполагает единство оценки юридически значимых фактов и событий. Вместе с тем различный масштаб правового нормирования законодателем, подразумевающий общество в целом или его часть (в любом случае, нормирование законодателем подразумевает масштабность и протяженность), и масштаб правового нормирования судьей, предполагающий ограниченность по кругу лиц и во времени, предполагает разобщенность оценок, поскольку разница в масштабе обусловливает разницу в применяемом методе правового регулирования.
С организационной точки зрения схема политической объективации судебной власти зависит от характеристик механизмов, используемых органами политической власти государства для разрешения противоречий, обусловливающих политическую плоскость бытия судебной власти и обеспечивающих деятельность институтов судебной власти как институтов макросоциально-го регулирования.
Выделяют три таких механизма. Первый механизм основан на существовании организационных и кадровых зависимостей судебных органов от органов, объективирующих государственную волю и государственный интерес в случае правового нормирования общества в целом. Это могут быть органы исполнительной и законодательной власти, а также органы и должностные лица, не относящиеся ни к исполнительной, ни к законодательной власти, но обладающие реальной политической силой, мощью, способной оказывать влияние на формирование и деятельность высших органов государственной власти.
Конкретная реализация этого механизма зависит от формы правления, политического режима и обусловливается, в конечном счете, расстановкой политических сил в политической системе государства. Однако, и мы наблюдаем это во всемирном масштабе, имеет место зависимость кадровых назначений от того, насколько та или иная персоналия разделяет систему взглядов на должное с теми, кто олицетворяет политическую силу, т. е. механизм основан на совпадении интересов, что является одним из двух критериев существования судебной власти и судебной системы как элементов политической системы государства.
Второй механизм – это процесс, порядок рассмотрения дел. Как правило, процессуальное право понимается как часть норм правовой системы, регулирующей отношения по соблюдению процессуальной формы, требуемой для реализации и защиты материального права [1]. Процессуальное право неразрывно связано с материальным правом, так как закрепляет процессуальные формы, необходимые для его осуществления и защиты. Процессуальное право, применяемое для рассмотрения дел в судах, определяет порядок осуществления правосудия, которое также на- правлено на охрану прав и законных интересов лиц и государства, однако отличается специфическим предметом и методом правового регулирования, а также системой источников, представляющих собой внешние формы выражения процессуально-правовых норм. Под процессом понимается всю совокупность процессуально-правовых действий и процессуально-правовых отношений, возникающих на всех стадиях рассмотрения дела: в первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях, при пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Однако если отвлечься от традиционного взгляда на процесс как на процедуру, позволяющую наиболее объективно рассмотреть спор о праве или о факте и проанализировать понятие судебного процесса с точки зрения его места и роли в общей системе государственноправовой регуляции, то мы неизбежно придем к выводу о том, что в самом общем случае любой процесс, применяемый в судопроизводстве, призван решать две задачи.
Во-первых, он определяет, что есть истина, насколько совпадает юридическая и фактическая истина, т. е. необходимое и достаточное условие понимания должного в ситуации правовой неопределенности. Необходимость этого условия диктуется соотношением юридического и фактического, которое позволяет судебно-правовой норме восприниматься как социально справедливой. Достаточность этого условия – совпадение в соотношении истин должного, такого, каким оно видится органам, объективирующим государственную волю для общих случаев и решающим задачу макросоциальной регуляции, и должного, каким оно видится судье, суду, с учетом их масштаба правового регулирования.
Во-вторых, процесс, рассматриваемый как последовательная деятельность всей совокупности судебных органов, образующих единую судебную систему, позволяет выполнять судебной системе функции определения критериев смыслополагания, которые являются имманентными, обеспечивающими самостоятельность судебной власти, понимаемой в данном контексте как возможность реализации схемы учета интересов системы органов политической власти, отличной от реализации этой схемы органами законодательной и исполнительной власти.
Таким образом, процесс проведения судебной процедуры обеспечивает такой порядок принятия решений, который, с одной стороны, обеспечивает единство смыслополагания, а с другой, – уникальность решения.
Объективность существования первого и второго механизма объясняется их взаимной обусловленностью. Первый механизм основан на том, что нормативные критерии органам судебной власти задаются извне, оставляя свободу толкования лишь того, что относится к компетенции судебной власти. Процесс как правовая форма всегда объективирован в законе, а значит, он всегда является результатом согласования воль и интересов элементов политической системы государства относительно вопроса о том, как должно осуществляться правоприменение и соблюдение единства правовой формы государственной власти. Фактическим центром, относительно мнения которого реализуется процесс правоприменения в условиях спора о факте или о праве, являются органы, объективирующие государственную волю для общих случаев и решающих задачу макро-социальной регуляции.
Таким образом, механизм судебной процедуры оказывается, по сути, государственноправовым механизмом, позволяющим диалектически объединить разновекторность, обусловливающую политическое существование судебной власти и судебной системы.
Третий механизм, позволяющий объяснить объективность существования судебной власти как власти политической, – это механизм различия в деятельности органов и должностных лиц системы органов власти. В самом общем виде он сводится к тому, что любая власть для собственного поддержания должна выполнять функции реализации и поддержания ситуации власти. «Такое разделение, – подчеркивал А. Васильев, – имеет очень важное значение для понимания госу- дарственной власти, поскольку оно дает возможность все органы государства разделить на властные и властвующие и на этой основе определить их реальную роль в жизни общества, характер и способы взаимодействия, что, безусловно, оказывает большое влияние на эффективность деятельности государственной власти в целом» [2].
Деятельность тех органов государственной власти, которые могут быть отнесены к властным органам, основана на том, что они самостоятельно определяют внутренние стимулы, интересы, эмоции, заставляющие участников власти действовать. В этой связи, будучи участниками политического процесса, они самостоятельны в политическом смысле .
«Властвующий, – отмечал И. Ильин, – должен не только хотеть и решать, но и других систематически приводить к согласному хотению и решению. Властвовать – значит, как бы налагать свою волю на волю других; однако с тем, чтобы это наложение добровольно принималось теми, кто подчиняется. Властвование есть тонкий, художественно слагающийся процесс общения более могучей воли с более слабой волей. Этот процесс создает незримую и невесомую атмосферу тяготения периферии к центру, многих разрозненных воль к единой, организованной, ведущей воле. Создание такой атмосферы есть дело особого искусства, требующего не только интенсивности волевого бытия, но и душевно-духовной прозорливости, подлинного восприятия бессознательной жизни других и умения ее воспитывать. Властвующий должен сделать из своей воли, во-первых, силу, предметно одержимую государственною целью, и, во-вторых, действительный и единый волевой фокус народной жизни» [3].
Становясь не исполнителем, а элементом государственно-публичной власти, судебная власть обретает самые общие компоненты структуры общения в рамках государственнопубличной власти: агентов; ценности; способы (инструментально-институционные) и ресурсы. Именно взаимодействие между ними позволяет судебной власти реализовывать всю палитру отношений: «господство», «подчинение», «воля», «сила», «контроль», «распределение», «руководство», «лидерство», «управление», «давление», «властвование», «влияние», «авторитет», «насилие».
Выводы. Таким образом, отличия судебной власти в содержании, основаниях возникновения и способах учета интересов от иных форм государственной власти неизбежно приводят к отличиям в направленности власти и целях системы судебных органов, что в государственноорганизованном обществе превращает судебную власть во власть политическую, а систему судебных органов – в элемент политической системы государства.
Основания политической объективации судебной власти связаны с тем, что:
-
– власть и право, взятые в их единстве, образуют условие существования государственной власти в государственно-организованном обществе. Субъектом власти, в этом случае, является лицо, полномочия которого позволяют легально осуществлять процедуру определения запрещенного и дозволенного в праве как формуле власти;
-
– диалектика права предполагает его существование как в случае нормирования (регуляции) повторяющихся явлений, так и в случае индивидуального правоприменения. Определяя право в случае индивидуального правоприменения, судья становится носителем государственной власти в той мере, в какой в данном обществе власть выражена в праве. Таким образом, судебная власть оказывается политической настолько, насколько право отражает консенсус интересов политических агентов данного общества;
-
– субъектом власти в случае индивидуального правоприменения при споре о праве или о факте становится судья;
-
– обязанность трактовки государственной воли в ситуации индивидуального правоприменения обусловливает существование судебной власти вне зависимости от типа политической
структуры, поскольку последняя определяет, как правило, свой интерес применительно к повторяющимся случаям, и только в случае, когда индивидуальное правоприменение затрагивает какие-либо важные интересы какого-либо политического агента, он стремится к влиянию на судебную власть, и если это влияние осуществляется, если источником воли оказывается не суд, а политический агент, то только в этом случае судебная власть как вид государственной власти, отражающей обобщенный интерес, трансформируется в судебную функцию как функцию трансляции чужой воли.
Содержание политической объективации зависит от характеристик механизмов, используемых органами политической власти государства для разрешения противоречий, обусловливающих политическую плоскость бытия судебной власти, и обеспечения деятельности институтов судебной власти как институтов макросоциального регулирования.
Список литературы Судебная власть в политическом измерении российского общества
- Новицкая В.В. Процессуальное право: монография/В.В. Новицкая, В.А. Новицкий. -Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2006. -800 с.
- Васильев А. Власть и властвование/А. Васильев//Гос. служба. -2002. -№ 6 (20). -С. 42-50.
- Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве/И.А. Ильин//Собр. соч. в 10 т. Т. 4. -М.: Русская книга, 1994.