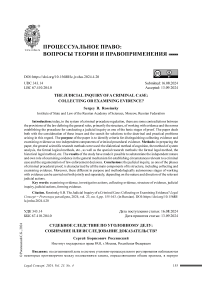Судебное следствие по уголовному делу: собирание или исследование доказательств?
Автор: Россинский Сергей Борисович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Процессуальное право: вопросы теории и правоприменения
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: на сегодняшний день в системе уголовно-процессуального регулирования наблюдаются некоторые противоречия между положениями закона, определяющими общие правила, в первую очередь структуру, работы с доказательствами, и нормами, устанавливающими порядок проведения судебного следствия как одного из базовых этапов доказывания. Настоящая статья посвящается как рассмотрению данных вопросов, так и поиску решения возникающих в этой связи доктринальных и практических проблем. Цель статьи сводится к выявлению критериев для разграничения собирания доказательств и исследования доказательств как двух самостоятельных компонентов уголовно-процессуального доказывания.
Исследование доказательств, следственные действия, собирание доказательств, структура доказывания, судебное следствие, судебные действия, формирование доказательств
Короткий адрес: https://sciup.org/149147456
IDR: 149147456 | УДК: 343.14 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2024.4.20
Текст научной статьи Судебное следствие по уголовному делу: собирание или исследование доказательств?
DOI:
Что такое судебное следствие? Казалось бы, любой имеющий отношение к уголовной юстиции специалист, способен четко ответить на этот вопрос. Скорее всего, каждый прокурорский работник, адвокат и, тем более, судья, не раздумывая, скажет, что под судебным следствием надлежит понимать один из важнейших этапов рассмотрения уголовного дела в первой либо апелляционной инстанциях. Одновременно будет обращено внимание на его познавательную направленность, выраженную в установлении имеющих значение для уголовного дела обстоятельств путем исследования судом совместно со сторонами находящихся в их распоряжении доказательств. Такие же либо предполагающие определенные оттенки позиции присущи и многим доктринальным источникам [11, с. 93; 14, с. 918; и др.], в частности научным публикациям, прямо посвященным проблематике судебного следствия [2, с. 6–7; 19, с. 7].
Вместе с тем при более детальном и обстоятельном погружении в уголовно-судебную проблематику все подобные взгляды начинают представляться хотя и лежащими в правильном направлении, но далеко не безупречными – находящимися в явном противоречии с нормами гл. 11 Уголовнопроцессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ / Кодекс), предполагающими трехзвенную структуру доказывания, сводящуюся к известной формуле: «собирание доказательств → проверка доказательств → оценка доказательств». Более того, наблюдаемое противоречие видится не случайным. С одной стороны, оно обусловлено несовершенством теоретических подходов к сущности и формам накопления и исследования доказательственного материала, тогда как с другой – несколько поверхностным отношением самого «коллективного законодателя» (читай, разработчиков проекта Кодекса) к требующему гораздо большего внимания воплощению данных подходов в положениях УПК РФ.
Намерения внести определенную ясность в возникающие в этой связи вопросы, а также попытаться устранить существующие теоретические и нормативно-правовые шероховатости побудили автора к очерченному «раунду» научных изысканий, посвященных никак не поддающимся разрешению проблемам уголовно-процессуального доказывания, предопределили потребность в подготовке ряда научных публикаций, в частности настоящей статьи.
Шероховатости в нормативной регламентации доказывания и судебного следствия
Итак, имея познавательную направленность, судебное следствие по уголовному делу в целом сводится к осуществлению судом совместно со сторонами в присутствии прочих участников заседания и «судебной публики» различных судебных действий (судебных действий следственного характера) 1. Таковыми, как известно, являются предусмотренные гл. 37 УПК РФ когнитивно-удостоверительные приемы, состоящие в накоплении и фиксации сведений, относящихся к предмету доказывания и подлежащих дальнейшему использованию для обоснования приговоров (некоторых иных судебных актов).
Потребность в проведении подобных действий обычно связывается с необходимостью исследования и проверки доказательств как важнейших атрибутов судебного доказывания [2, с. 20; 3, с. 171; 5, с. 256–257; 7, с. 208; 13, с. 113; 15, с. 60; и др.]. При этом на указанную выше нормативную шероховатость обычно не обращается никакого внимания – ученые процессуалисты либо не замечают, либо стараются не замечать несоответствия своих взглядов предусмотренной ст. 85 УПК РФ трехчленной формуле доказывания.
Однако при более серьезном осмыслении сущности судебного следствия невольно возникает ряд вытекающих один из другого вопросов. Куда все-таки «потерялось» требование о собирании судом доказательств? Стоит ли толковать положения гл. 37 УПК РФ как освобождающие суды от подобных полномочий, ограничив их роль лишь исследованием и проверкой доказательств, собранных органами дознания и предварительного следствия? Как в таком случае быть с состязательностью и равноправием сторон – одним принципов уголовного судопроизводства (ст. 15 УПК РФ), находящим закономерное отражение в общих условиях судебного разбирательства (ст. 244 УПК РФ)? Как понимать смысл судебных приемов, направленных на получение принципиально новых, вообще не попавших зону дознавательского либо следственного внимания сведений: допросов каких-то новых свидетелей (ст. 278 УПК РФ), приобщений к уголов- ным делам каких-либо новых материалов (ст. 286 УПК РФ) и т. д.?
Конечно, эти вопросы могут показаться несколько наивными и несуразными. Оппоненты, скорее всего, заявят о неверном понимании автором настоящей статьи ряда положений уголовно-процессуального закона. Одновременно будет указано на ч. 1 ст. 86 УПК РФ, прямо наделяющую суд полномочиями по собиранию доказательств. Вместе с тем такие возражения не возымеют никакого принципиального значения – их принятие к сведению приведет лишь к нивелированию наблюдаемой шероховатости, но не повлияет на ее исчезновение. Тем более, что соответствующие научные позиции ограничиваются не более чем голословными призывами к «правильному» толкованию закона.
Таковыми, в частности, представляются взгляды С.П. Гришина. С одной стороны, справедливо обращая внимание на «нестыковку» положений гл. 11 и 37 УПК РФ, автор пытается найти в подобных нормативных расхождениях некий тайный смысл – пишет о «неслучайности выбора используемой законодателем терминологии». Однако, с другой стороны, на этом его доводы и заканчиваются: подлинную причину, побудившую разработчиков Кодекса к отказу от единообразных подходов к механизмам досудебного и судебного накопления доказательственной информации, ученый так и не сообщает, а лишь констатирует, что судебному доказыванию присущи все три предусмотренных ст. 85 УПК РФ элемента доказывания. Причем процессуальные формы их воплощения в судебном следствии он почему-то усматривает в механизмах представления и исследования доказательств [9, с. 21–22]. Схожую точку зрения занимает и О.А. Машо-вец. Говоря о той же самой нормативной «нестыковке», она пишет о необходимости более широкого по сравнению с «традиционным» подходом понимания сущности судебного следствия. Одновременно автор заявляет о включении в содержание этой деятельности любых процессуальных приемов, связанных с представлением доказательств, собранных в ходе досудебного производства, с собиранием и закреплением новых доказательств, а также с исследованием и оценкой всего имеющегося доказательственного материала. [16, с. 16–17].
Спорить с подобными доктринальными позициями нет никакого смысла – в целом они вполне справедливы. Вместе с тем в этих взглядах все же усматривается какая-то недосказанность, вышеуказанная голословность, а если быть точнее – интуитивность. Создается впечатление, что авторы формулируют свои позиции, преимущественно опираясь на какое-то внутреннее чутье, на свою проницательность, на неосознанные «инстинкты», подкрепленные лишь профессиональным опытом и здравым смыслом. По крайней мере, никаких весомых научных аргументов, убеждающих читателей в правильности подобных воззрений, ни в одной из публикаций обнаружить так и не удалость.
Собирание и исследование доказательств как самостоятельные компоненты уголовно-процессуального доказывания
И это не удивительно! Ведь такие доводы надлежит искать не столько в правовой регламентации судебного следствия и даже не в сопоставлении ряда положений гл. 37 УПК РФ с близкими по смыслу требованиями, предъявляемыми к досудебному производству, сколько в системных ошибках разработчиков проекта Кодекса, допущенных при формировании нормативной основы самого доказывания. Причем, в первую очередь, причину наблюдаемых шероховатостей следует связывать именно с ущербностью все той же ст. 85 УПК РФ, сводящей работу с доказательствами лишь к их собиранию, проверке и оценке.
В этой связи необходимо вспомнить, что в публикациях автора настоящей статьи неоднократно обосновывалась потребность в использовании достаточно широкого, как бы универсального подхода к сущности доказывания, максимально соответствующего «естественным», «данным свыше», не зависящим от изобретенных людьми и установленных уголовно-процессуальным законом правил закономерностям гносеологии и формальной логики и, таким образом, обеспечивающего аутентичную взаимосвязь теории с реалиями правоприменительной практики [18, с. 18–22; и др.]. Доказыванием предлагалось считать специальную практическую деятельность участников уголовно-процессуальных правоотношений, состоящую в совокупности взаимосвязанных когнитивно-удостоверительных приемов и мыслительно-логических операций, способствующих установлению имеющих значение для уголовного дела обстоятельств и аргументации предопределенных ими приговоров либо иных правоприменительных актов [18, с. 22]. Исходя из подобного и, по мнению автора, наиболее правильного методологического подхода, ущербность легально определенной структуры доказывания становится достаточно очевидной. Сразу возникает осознание потребности в ее дополнении еще двумя обязательными элементами: исследованием доказательств и использованием доказательств. И если использование доказательств состоит в мыслительно-логических операциях, проводимых в целях обоснования процессуальных решений органов предварительного расследования, суда и позиций сторон, то посредством исследования доказательств обеспечивается процессуальное познание.
На сегодняшний день, спустя более двадцати лет с момента принятия Кодекса, уже достаточно сложно выявить подлинные причины, предопределившие пробелы в нормативной регламентации правил работы с доказательствами. Во всяком случае они не были связаны с намерением разработчиков проекта УПК РФ сохранить преемственность по отношению к действовавшему ранее советскому закону. Ведь Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. никакой четкой структуры доказывания не предусматривал; подобное правотворческое решение фактически было реализовано впервые. В этой связи остается ограничиваться лишь некоторыми гипотезами, например, версией о сильном влиянием положений так называемой кибернетической (информационной) концепции доказывания со всеми присущими ей недостатками и т. д.
Ввиду ограниченного объема настоящей статьи от изначально возникшего намерения подробно изложить такие гипотез, пришлось отказаться 2. Тем более, что в принципе они не так уж и важны. Гораздо важнее другое: сама потребность в пополнении легализованной в УПК РФ структуры доказывания дополнительными элементами, в частности ис- следованием доказательств 3. К слову, на такую потребность уже обращали внимание некоторые ученые-процессуалисты [6, с. 367; 10, с. 22]; кроме того, справедливо указывалось об отсутствии легальной дефиниции исследования доказательств [8, с. 43].
Конечно, на первый взгляд, данные предложения могут показаться излишними и надуманными. Ведь законом вроде бы уже предусматриваются познавательно-ориентированные, направленные на восприятие полезных сведений компоненты доказывания, в первую очередь собирание доказательств. Однако подобное впечатление является достаточно обманчивым – при более детальном и обстоятельном погружении в тонкости когнитивно-удостоверительной деятельности субъектов доказывания различия в собирании и исследовании доказательств становятся достаточно очевидными.
Так, под собиранием доказательств надлежит понимать накопление относящихся к предмету доказывания предметов, документов, сведений, сопровождаемое их юридическим преобразованием, в предрасположенные к использованию по назначению и установленные ч. 2 ст. 74 УПК РФ информационные активы: в показания, в протоколы, в вещественные доказательства и т. п. Причем ввиду различной природы и различных свойств подобных активов законодателем предусматриваются два разных механизма собирания доказательств: 1) формирование – путем проведения следственных действий, судебных действий (судебных действий следственного характера), судебных экспертиз и 2) приобщение доказательств к уголовному делу – путем придания им требуемого юридического состояния посредством вынесения государственно-властных актов о признании доказательствами и приобщении к уголовному делу.
Замысел настоящей статьи не предполагает подробного освещения проблем разграничения доказательств на формируемые и приобщаемые (так называемые паратусные), а также связанных с ними научных дискуссий – данные вопросы достаточно обстоятельно рассмотрены в других публикациях автора. Вместе с тем все же хотелось бы заострить внимание на одном важном обстоятельстве – на признании собственной ошибки, нео- смотрительно допущенной в ходе прежних изысканий. Ведь ранее формирование доказательств расценивалось автором в качестве механизма, предполагающего сочетание познавательных и фиксационных приемов, то есть интеграцию когнитивного и удостоверительного компонентов доказывания в единую и неразрывную общность. Тогда как приобщение доказательств рассматривалось исключительно в качестве удостоверительного механизма, начисто лишенного какой-либо когниции. Вместе с тем в результате дальнейших научных поисков и размышлений пришло осознание неточности таких взглядов, возникла убежденность в необходимости частичного пересмотра подобной позиции.
Сами по себе следственные и судебные действия, а также судебные экспертизы по-прежнему видятся достаточно сложными по характеру способами накопления информационных активов, сочетающими когнитивные и удостоверительные приемы работы органов предварительного расследования и суда, то есть, с одной стороны, направленными на получение каких-либо актуальных сведений, а с другой – предполагающими одновременную возможность преобразования этих сведений в новые доказательства. Однако такая интеграция более не представляется сущностным признаком механизма формирования, отличающим его от механизма приобщения предметов и документов к уголовному делу.
Думается, что в реальности сугубо когнитивные приемы работы не характерны ни для формирования доказательств, ни для их приобщения к материалам дознавательских, следственных либо судебных производств. И формирование, и приобщение надлежит признавать не более чем различными способами юридического удостоверения получаемых доказательственных продуктов, дифференцированными формами процессуальной регистрации таких продуктов в качестве пригодных к использованию (допустимых) средств доказывания. А критерии для их разграничения следует усматривать исключительно в разной природе и разных свойствах подлежащих накоплению информационных активов: формированием считать преобразование полезных сведений в доказательства посредством процессуально-созидательных действий, то есть путем создания, «сотворения» новых продуктов, а приобщением – легализацию уже существующих, то есть возникших или созданных за рамками процессуальных правоотношений предметов или документов.
Одновременно представляется, что подлинно когнитивные приемы присущи не столько собиранию, сколько исследованию доказательств, – безусловно взаимосвязанному с собиранием доказательств, но, тем не менее, самостоятельному, автономному компоненту доказывания. Именно исследование доказательств состоит в перцепции материальных либо идеальных «следов преступления» (следов в широком смысле, то есть любых отображений объективной реальности), в извлечении из них полезных для уголовного дела сведений. Именно оно – исследование – осуществляется посредством восприятия и распознавания дознавателями, следователями, судьями, многими другими участниками судопроизводства внешних признаков и содержания предрасположенных к приобщению, формируемых либо уже имеющихся в уголовном деле информационных активов в целях обеспечения возможности их дальнейшей проверки, оценки и использования для установления входящих в предмет доказывания обстоятельств и обоснования правоприменительных решений. К слову, подобные взгляды фрагментарно высказывались еще советскими учеными [1, с. 48; 4, с. 8–9; 17, с. 5]; схожие позиции, можно встретить и в публикациях некоторых современных авторов [10, с. 21–22; 12, с. 188].
Правда конкретные приемы по собиранию и исследованию доказательств будучи интегрированными в единые когнитивно-удостоверительные операции: в осмотры, обыски, допросы и пр. – могут настолько сильно переплетаться между собой, смешиваться в единое целое, что их практическое размежевание, «раскалывание по полочкам» является весьма затруднительным. Кстати, схожие проблемы наблюдаются и вопросах практического отграничения исследования от проверки – еще одного компонента работы с доказательствами.
Причем самые серьезные трудности в подлинном осознании автономности собирания и исследования, а заодно и проверки доказательств наблюдаются части досудебно- го производства. Тогда как судебные действия (судебные действия следственного характера) гораздо более предрасположены к распознаванию разницы между этими компонентами доказывания. Ведь в силу понятных причин суду и сторонам в отличие от органов предварительно расследования приходится гораздо чаще сталкиваться с необходимостью когниции уже имеющихся в уголовном деле доказательств, с исследованием доказательств «в чистом виде». Для этого законом даже специально предусматриваются не свойственные дознавательской и следственной деятельности познавательные процедуры: оглашения показаний, протоколов следственных действий, прочих материалов досудебного производства, осмотры вещественных доказательств и пр. Несвязанность всех подобных действий ни с формированием доказательств, ни с их приобщением к уголовному делу должна быть очевидна любому человеку, пусть даже имеющему самое посредственное представление о механизмах уголовного судопроизводства континентального типа.
Выводы
Таким образом, на основании всего изложенного можно констатировать, что судебному следствию как одному из фазисов уголовнопроцессуального доказывания присущи все основные компоненты его структуры, включая и собирание, и исследование доказательств. Причем эти разные по предназначению и методологически автономные этапы работы с подлежащими дальнейшему использованию информационными активами могут осуществляться как совместно, так и по раздельности – в зависимости от характера и направленности соответствующих судебных действий.
Судебными действиями, предполагающими сочетание собирания и исследования доказательства, их переплетение, смешение в единое целое, належит признавать когнитивно-удостоверительные приемы, имеющие четкие досудебные аналоги и сводящиеся к решению двух самостоятельных задач: 1) к формированию новых информационных активов (показаний, заключений эксперта и отражаемых в протоколах судебных заседаний результатов невербальных судебных действий); 2) к одновременному уяснению воспринимаемых сведений. К таковыми следует относить различные судебные допросы, осмотры местности и помещения, эксперименты, предъявления для опознания, освидетельствования и судебные экспертизы.
Судебными действиями, предполагающими исключительно исследование ранее собранных доказательств, надлежит признавать различные оглашения показаний и материалов уголовного дела, а также осмотры вещественных доказательств.
И наконец, к действиям, направленным лишь на собирание доказательств, разумно относить приобщения к материалам уголовного дела вещественных доказательств и представленных в судебное заседание документов.
Список литературы Судебное следствие по уголовному делу: собирание или исследование доказательств?
- Белкин, Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств / Р. С. Белкин. - М.: Наука, 1966. - 295 с.
- Бозров, В. М. Судебное следствие. Вопросы теории и практики / В. М. Бозров, В. М. Кобяков. - Екатеринбург: Каменный пояс, 1992. - 144 с.
- Бурмагин, С. В. Процессуальные стандарты доказывания в особых судебно-уголовных производствах / С. В. Бурмагин // Legal Concept = Правовая парадигма. - 2022. - Т. 21, № 4. - С. 168-177. -DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.4.23
- Василенко, В. П. Исследование доказательств на предварительном следствии: автореф. дис.... канд. юрид. наук / Василенко Василий Па-хомович. - М.: Академия МВД СССР, 1978. - 21 с.
- Васяев, А. А. Теория исследования доказательств в российском уголовном процессе / А. А. Ва-сяев. - М.: Юрлитинформ, 2016. - 472 с.
- Газетдинов, Н. И. Реализация принципов уголовного судопроизводства / Н. И. Газетдинов. -М.: Изд. группа «Юрист», 2007. - 431 с.
- Головинская, И. В. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: учеб. пособие / И. В. Головинская. - Владимир: Изд-во Владимир. гос. ун-та, 2022. - 208 с.
- Григорян, В. Л. Судебное разбирательство -центральная стадия российского уголовного процесса? / В. Л. Григорян // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 3 (32). - С. 42-49.
- Гришин, С. П. Судебное следствие в смешанном уголовном процессе / С. П. Гришин. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 472 с.
- Жусипбекова, А. М. Исследование доказательств как элемент доказывания по уголовному делу / А. М. Жусипбекова // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2022. - № 3. - С. 19-23.
- Загорский, Г. И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам: учеб.-практ. пособие. - М.: Проспект, 2014. - 312 с.
- Конин, В. В. Исследование доказательств в уголовном судопроизводстве: дискуссионные вопросы / В. В. Конин // Научный вестник Орловского Юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова. - 2024. - № 2 (99). - С. 185-191.
- Корчагин, А. Ю. Судебное разбирательство уголовных дел: понятие, организация, тактика / А. Ю. Корчагин. - М.: Юрид. мир, 2007. - 141 с.
- Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. - М.: Статут, 2016. - 1278 с.
- Лазарева, В. А. Доказательство как категория уголовно-процессуального права: новые (старые) подходы / В. А. Лазарева // Legal Concept = Правовая парадигма. - 2019. - Т. 18, № 2. - С. 55-62. -DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.2.8
- Машовец, А. О. Судебное следствие в уголовном процессе России. - М.: Юрлитинформ, 2016. - 451 с.
- Пашкевич, П. Ф. Объективность судебного исследования уголовного дела / П. Ф. Пашкевич // Советская юстиция. - 1961. - № 10. - С. 4-6.
- Россинский, С. Б. Уголовно-процессуальное доказывание - совокупность познавательно-удостоверительных приемов и аргументационно-ло-гических операций / С. Б. Россинский // Труды Академии управления МВД России. - 2023. - № 1 (65). -С. 16-24.
- Чеджемов, Т. Б. Судебное следствие / Т. Б. Чеджгмов ; отв. ред. В. В. Шубин. - М.: Юрид. лит., 1979.- 96 с.