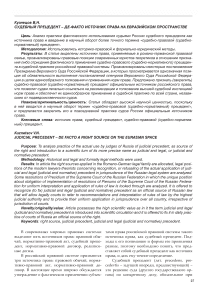Судебный прецедент - де-факто источник права на евразийском пространстве
Автор: Кузнецов Виктор Николаевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 5 (18), 2015 года.
Бесплатный доступ
Цель: Анализ практики фактического использования судьями России судебного прецедента как источника права и введение в научный оборот более точного термина «судебно-правовой (судебно-нормативный) прецедент». Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы. Результаты: В статье выделены источники права, применяемые в романо-германской правовой семье, проанализированы правовые позиции современных юристов-теоретиков в отношении признания либо отрицания фактического применения судебно-правового (судебно-нормативного) прецедента в судебной практике российской правовой системы. Проанализированы некоторые постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации, в которых просматривается однозначная позиция об обязательности выполнения постановлений пленумов Верховного Суда Российской Федерации в целях единообразного толкования и применения норм права. Предложено признать (закрепить) судебно-правовой (судебно-нормативный) прецедент официальным источником российского права, что позволит судам легально ссылаться на рекомендации и толкование высшей судебной инстанцией норм права и обеспечит их единообразное применение в судебной практике по всей стране, независимо от подведомственности судов. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку в ней вводится в научный оборот термин «судебно-правовой (судебно-нормативный) прецедент», и предлагается закрепить его в повседневной практике судов России официальным источником права.
Источник права, судебный прецедент, судебно-правовой (судебно-нормативный) прецедент
Короткий адрес: https://sciup.org/14027837
IDR: 14027837
Текст научной статьи Судебный прецедент - де-факто источник права на евразийском пространстве
В современных мировых правовых системах выделяют пять источников права: правовой обычай, нормативно-правовой акт, судебный прецедент, нормативно-правовой договор, религиозные догмы.
В российской правовой системе признаются три источника права: правовой обычай, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. В настоящее время широко обсуждается утверждение о фактическом применении субъек- тами права российской правовой системы такого источника права, как судебный прецедент. Подходы к его пониманию и формы его проявления разные, поэтому необходимо понять, что представляет собой судебный прецедент как источник права, и дать ему точное определение.
Судебный прецедент (лат. precedens, pre-cedevtis – идущий впереди, предшествующий) – это решение суда (другого государственного органа) по конкретному делу, обязательное при решении аналогичных дел в последующем этим же судом либо судами, равными или нижестоящими по отношению к нему.
Основными источниками права в России являются нормативные правовые акты, которые регулируют отношения неопределенного круга лиц и обязательны для всех. Решение суда – это индивидуально-правовой акт, то есть он обращен к конкретным лицам (которые были участниками рассмотренного дела). Решение суда – это толкование и применение норм права, регулирующих спорные правоотношения. Задача суда – проанализировать действующие нормы закона и вынести решение, основанное на них.
Судебный прецедент, являясь основным источником права в англо-саксонской правовой семье, в романо-германской правовой системе широкого распространения не получил, хотя фактически уже используется в качестве своего рода факультативного источника права.
Проблема признания судебного прецедента источником права в российской правовой системе неоднократно становилась предметом научного анализа ученых-теоретиков. Отечественная юридическая наука до сих пор, как и в советский период, разделена на два основных лагеря. К сторонникам отрицания возможности признания судебного прецедента в российской системе права относятся В.П. Божьев, Н.И. Ветров, А.Ф. Истомин, Н.Н. Ковтун. Другой точки зрения придерживаются А.Л. Бурков, В.М. Лебедев, Р.З. Лившиц, В.В. Кулыгин, М.Н. Марченко, которые признают фактическое введение судебного прецедента в правоприменительной практике судов и считают, что разъяснения (толкование) высшими судебными инстанциями имеют силу источника права.
В частности, А.Л. Бурков высказал такое мнение по этому вопросу: «Применение судьями нижестоящих судов постановлений пленумов Верховного Суда (ППВС), не отражающееся в решениях, за некоторыми исключениями является установкой Верховного Суда РФ. Это превращает постановления пленума Верховного Суда в «скрытый» источник права, эффективный для целей обеспечения единообразного толкования законодательства национальными судами и, более того, часто изменяющий нормы законодательства…» [1].
Профессор М.Н. Марченко придерживается позиции, что официальное признание судебной практики как источника права – вопрос не только или не столько теории, сколько практики. Несмотря на то, что законодательство четко не устанавливает обязательный статус ППВС, и до сих пор ведутся научные споры относительно обязательной юридической силы этих постановлений, на практике судьи и адвокаты относятся к ППВС как к нормативным правовым актам, обязательным для применения [4, с. 385; 5, с. 11–21].
В статье «О реформе судебной системы России» В.Н. Кузнецов предложил «признать судебный (судебно-правовой, судебно-нормативный) прецедент источником российского права» [3, с. 66–69]. На взгляд автора статьи, главным препятствием, стоящим на пути современного правосудия, является официальное принижение и непризнание судебного прецедента источником российского права. Причина здесь в том, что теоретики права, которые были таковыми еще в советское время, имеют пока достаточный авторитет, чтобы не допускать признания этого источника права в российском законодательстве. Хотя на практике этот источник права реально (de facto) уже применяется, в том числе и высшей судебной инстанцией, в форме постановлений пленумов.
На постсоветском евразийском пространстве, в абсолютном большинстве стран которого правовые системы стали правопреемниками советской правовой системы, де-факто судебный прецедент в виде обобщения судебной практики высшей судебной инстанцией также стал источником права для целей единообразного применения норм права.
Действительно, решение конкретного суда по конкретному делу было бы неправильно применять судами российской правовой системы как источник права, но обобщенную высшими судебными инстанциями судебную практику применения той или иной нормы права было бы логичным разрешить использовать в качестве обоснования принятого решения официально. Термин «судебный прецедент», может, и не совсем подходит, поэтому предлагается ввести новый термин «судебно-правовой, судебно-нормативный прецедент». То есть данный прецедент может быть использован судами в качестве обоснования принятого решения наравне с нормами права.
В соответствии со ст. 126 Конституции РФ «Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики».
Примером фактического применения разъяснений по вопросам судебной практики как источника права могут быть многочисленные упоминания в решениях судов как общей юрисдикции, так и арбитражных судов, цитат из разъяснений, постановлений, пленумов, информационных писем Президиума ВС РФ, которые стали в последние годы играть значительную роль при отправлении правосудия, что позволяет утверждать фактическое их использование как источника права.
Косвенно это подтверждает и Постановление Президиума ВС РФ от 01.07.2015 № ПВ15, в котором Президиум пришел к выводу, что при рассмотрении в кассационном порядке Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. дела по иску ЗАО «Международный Промышленный Банк» к А.В. Гладышеву о взыскании денежных средств по кредитному договору допущено нарушение единообразия в применении норм права.
В упомянутом постановлении недвусмысленно указано, что «в соответствии с пунктом 3 статьи 391.9 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные постановления подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской Федерации установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает единообразие в толковании и применении норм права.
Под нарушением судебным постановлением единообразия в толковании и применении норм права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и применение правовых норм, которое противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации».
Более того, ВС РФ положительно относится к фактическому использованию ППВС РФ, но не приветствует ссылки на них, что вызывает недоумение, ведь обращение судьи к источнику права, использованному в судебном решении, является основным правилом юридической техники.
В судебной практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов Свердловской области в качестве обоснования позиции суда при вынесении решения и мотивов принятого решения наряду с нормами законов уже несколько лет также цитируются разъяснения и рекомендации постановлений ППВС.
Так, в определении Свердловского областного суда от 4 июля 2006 г. (№ 33-3891/2006) сделана ссылка на пп. 7, 9, 10 ППВС РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»: «В силу положений п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин обращается в названные органы с заявлением, в котором приводит те или иные сведения (например, в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по его мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в указанном случае имела место реализация гражданином конструктивного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений».
Также при рассмотрении дела от 12.04.2011 (№ А60-2561/2011) Арбитражный Суд Свердловской области в тексте решения делает ссылку на п. 4 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ от 24.01.2000 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда». «В соответствии с позицией, указанной в п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», договор подряда считается не заключенным, если в нем отсутствует условие о сроке выполнения работ».
Подобные ссылки встречаются и в других судебных актах, что еще раз подтверждает, что в качестве обоснования своей позиции суды ссылаются на указания вышестоящих судебных инстанций (Определение Свердловского областного суда от 04.07.2006 № 33-3891/2006, Решение городского суда города Лесного Свердловской области от 02.06.2009 № 2-431/09, Решение городского суда города Лесного Свердловской области от 23.01.2012 № 2-8/12).
В статье «Статус постановлений пленума Верховного Суда РФ в законодательстве и судебной практике» А.Л. Бурков отметил, что оценка деятельности судей всегда зависела в том числе от количества отмененных принятых им решений.
«Ответственность может быть различной. При прочих равных условиях, чем чаще пересматриваются судебные решения конкретного судьи, тем меньше для него вероятность повышения и поощрения; полномочия судьи даже могут быть приостановлены или не продлены. Судьи осознают, что применение правовой позиции ВС РФ, выраженной в постановлениях Пленума, является гарантией того, что их решения не будут отменены. О последствиях незнания положений ППВС для судей автору упомянутой статьи председатель Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга М.А. Валова упоминает следующим образом: «Судьи должны знать и изучать постановления Пленума Верховного Суда РФ. Если судьи незнакомы с постановлениями Пленума, они просто перестают быть судьями» [2].
Таким образом, решение проблемы, поднятой в данной статье, видится в официальном признании (закреплении) судебно-правового (судебно-нормативного) прецедента как источника российского права в действующем законодательстве, что позволит судам легально ссылаться на рекомендации и толкование высшими судебными инстанциями норм права и обеспечит их единообразное применение в судебной практике по всей стране, независимо от подведомственности судов.
Список литературы Судебный прецедент - де-факто источник права на евразийском пространстве
- Бурков А.Л. Конвенция о защите прав человека в судах России. М., 2010.
- Бурков А.Л. Статус постановлений Пленума Верховного Суда РФ в законодательстве и судебной практике//Известия вузов. Правоведение. 2011. № 5.С. 172-186.
- Кузнецов В.Н. О судебной реформе в российской системе//Евразийская адвокатура. 2013. № 5 (6).
- Марченко М.Н. Источники права: учеб пособ.М., 2005.
- Марченко М.Н. Является ли судебная практика источником российского права?//Журнал российского права. 2000. № 12.