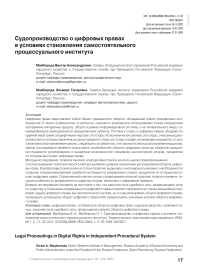Судопроизводство о цифровых правах в условиях становления самостоятельного процессуального института
Автор: Майборода В.А., Майборода Э.Т.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (19), 2024 года.
Бесплатный доступ
Цифровые права представляют собой объект гражданского оборота, обладающий рядом специфичных особенностей. К таким особенностям, в частности, относятся: возможность использования только посредством программно-аппаратных средств, оборот в рамках информационной системы, а не материального мира, самоверификация принадлежности определенному субъекту. Поэтому и споры о цифровых правах обладают по крайней мере тремя специфичными чертами: это споры об экономических активах; это споры, относимые доказательства по которым заключены в самом предмете спора; это споры о праве, не имеющем имущества, то есть с возможностью применения закона, следующего за субъектом, а не закона по месту расположения имущества.Целью исследования является осмысление особенностей оборота цифровых прав как объектов гражданско-правового регулирования и выявление возможностей специфики рассмотрения споров, предметом по которым выступают цифровые права.Методы исследования: телеологический, компаративистский и контент-анализ правоприменения. С использованием телеологического метода выявлено целевое назначение регулирования оборота цифровых прав. Компаративистский анализ в статье позволил выдвинуть и мотивировать мнение о необходимости создания специализированной судебной инстанции по разрешению споров, предметом по которым выступают цифровые права. Ограниченный контент-анализ правоприменительной практики позволил выявить текущие особенности разрешения по существу споров, связанных с цифровыми правами.Выводы исследования основаны на постулате о том, что законная сила судебного акта, разрешающего спор по существу, в отношении определенного цифрового права позволит определять не только дальнейшую правовую судьбу цифрового права как экономического актива, но и санкционировать оборот цифрового права, прекращать (запрещать) оборот цифрового права либо предписывать значимые условия оборота цифрового права.
Цифровые права, особенности оборота цифровых прав, судопроизводство, правовые семьи, законная сила судебного акта, прекращение (запрет) оборота цифрового права
Короткий адрес: https://sciup.org/14129975
IDR: 14129975 | DOI: 10.22394/2686-7834-2024-1-17-22
Текст научной статьи Судопроизводство о цифровых правах в условиях становления самостоятельного процессуального института
Legal Proceedings in Digital Rights in Independent Procedural System
Victor A. Mayboroda , North-Western Institute of Management, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation)
СТАТ Ь И
С 1 октября 2019 г. в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) включена статья, дающая общее понятие цифровых прав. По содержанию ст. 128 ГК РФ цифровые права отнесены к имущественным правам, а по тексту статьи 141.1 ГК РФ цифровые права отнесены к обязательственным и иным правам. Таким образом, в формально-правовом смысле цифровые права являются обязательством. Однако, вопреки данному выводу, п. 4 ст. 454 ГК РФ закрепляет в качестве универсальной нормы правило о том, что регулирование купли-продажи применяется к продаже имущественных, в том числе цифровых, прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. В литературе некоторое время продолжается дискуссия о природе цифровых прав: в пользу вещной природы приводятся в том числе и аргументы о содержании ст. 9 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которой в отношении утилитарного цифрового права выдается цифровое свидетельство, ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу утилитарного цифрового права1. Интересна аргументация Е. А. Суханова и В. И. Фатхи, указывающих, что цифровыми становятся не сами субъективные права, а только формы их закрепления2. В пользу обязательственной природы цифровых прав приводятся доводы о содержании вышеизложенных норм материального гражданского закона3. Выделяется также мнение о формировании в качестве самостоятельных цифровых прав цифровых услуг. Ж. Ю. Юзефович и В. Е. Хазова отмечают зачаточность такого выделения4.
Камнем преткновения этой дискуссии является то обстоятельство, что цифровые права, в отличие от иных «прав на права»5, которыми они по существу и являются, способны самостоятельно верифицировать свою принадлежность правообладателю. Действительно, если бы достаточной была норма о том, что обладателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом, то, приводя аналогию с материальным миром, можно было бы утверждать, что и правом собственности на автомобиль обладает лицо, у которого находится ключ от нее. Именно то обстоятельство, что цифровое право способно удостоверять само себя, без внешнего регистратора, и отделяет его от подобного рода вульгарных аналогий. Благодаря технологии блокчейна такое удостоверение считается достаточным в гражданском обороте. Следовательно, те цифровые права, чья принадлежность правообладателю подлежит удостоверению уполномоченным субъектом, относятся к вещным правам, а те цифровые права, что сами в себе и являются удостоверением принадлежности правообладателю, — обязательственными.
СТАТ Ь И
Такой подход, с использованием субъекта, наделенного полномочием по удостоверению правообладания, фактически используется криптовалютными биржами (депозитариями, инвестиционными платформами и иными акторами), благодаря чему крипта из права требования перерождается в токен (utility tokens), индивидуализируемое средство платежа. Однако сама по себе неочевидная природа цифровых прав не является главным препятствием для их рецепции в ординарный оборот. Более значимым является двойственная природа возникновения и оборота цифровых прав. Во-первых, они создаются с использованием технологического оборудования, то есть имущества, существующего в объективной реальности в качестве материальных объектов. Во-вторых, будучи созданными, представляют собой не более чем строчки кода, то есть являются благом лишь посредством интерпретации кода соответствующим программно-аппаратным комплексом и не существуют в объективной реальности в качестве материального объекта6. Таким образом, имущество-носитель является вещью оборота самостоятельно, а его содержимое, при активации кода субъектом, наделенным полномочием средства интерпретации, является правом требования — цифровым правом.
Приведенные обстоятельства выступают постоянной причиной неопределенности в понимании природы цифровых прав. Так, Яо Биюй, анализируя отдельные аспекты заключения сделок с использованием различных цифровых платформ, указывает на отсутствие надлежащей регламентации в вопросах формирования воли сторон, момента заключения сделки и иных обстоятельств7. Но особенное значение это имеет не только в ординарном обороте, но и при разрешении споров, предметом которых выступают цифровые права. Очевидно, что до настоящего времени разрешение подобного рода споров происходит без фактической осознанности всеми участниками процесса места цифровых прав в системе гражданско-правового регулирования. Например, суды предпочитают определять цифровые права как объект регулирования и не применять норму материального закона, давшую само понятие этих прав. В Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 6 августа 2020 г. № Ф01-11633/20 по делу № А43-34718/2017 суд кассационной инстанции, разрешая спор о признании займа, предметом которого выступали цифровые права, недействительной сделкой, уклонился от исследования доказательств происхождения денежных средств, переданных по займу от продажи биткоина, и прямо указал, что, исходя из даты возникновения спорных правоотношений, норма ст. 141.1. ГК РФ не подлежит применению. Заметим, что отсутствие нормы закона на момент даты сделки с цифровыми правами никак не опровергает факта наличия либо отсутствия продажи биткоина. В другом деле, в котором продажа криптовалюты была поименована «поставкой», суд ушел от оценки материально-правовых отношений, связанных с обоснованием иска ссылкой на то обстоятельство, что удостоверение иностранного нотариуса (Ирландия, Дублин) не является надлежащим доказательством, подтверждающим факт, что истцу принадлежало имущество в виде 3,7995 BTC, 36 030 USDT, 6450 USDT, которое выбыло в пользу ответчика. Третьим ярким примером процессуального отступления от принципов законности, всесторонности и объективности рассмотрения дела может служить дело № А65-16901/2020, в котором истребование доступа к аккаунтам в социальных сетях, используемых для продвижения истцом продукции, квалифицировано как ненадлежащий способ защиты права, и в требовании отказано8.
Допуская ту или иную критику судебного акта, необходимо принимать во внимание, что вступившие в силу судебные акты наделены законной силой, то есть по обязательности содержащегося в них предписания они равнозначны требованию закона. Хоть в практике и литературе указываются и иные, на наш взгляд — противоправные, возможности использования свойства законной силы судебного акта9. Данное обстоятельство еще в большей
СТАТ Ь И
степени мотивирует необходимость совершенствования как материального закона, регулирующего рассматриваемые правоотношения, так и формируемые практики его применения10. И если нормативно-правовое регулирование не соответствует уровню развития общественных отношений, то бремя нормотворчества возлагается на судебные инстанции, следуя одному из фундаментальных принципов континентальной правовой семьи о том, что суд знает право (Jura noscit curia)11. При этом важно иметь в виду, что телеологическое предназначение цифровых прав — следование формированию активов экономического оборота, выражаемых в цифровой форме, в форме машиночитаемых кодов. То есть цифровые права не должны рассматриваться исключительно в качестве самодостаточного блага, поскольку, подчеркнем еще раз, они не существуют в материальном мире, и благом, воплощаемым цифровыми правами по существу, является единственное благо — информация и ее оборот, регулируемый в общественном (публичном) интересе. Значит, вне зависимости от экономического выражения стоимости цифровых прав споры в их отношении имеют ту же природу, что и информационные споры, в том числе о диффамации. Но в отличие от указанных ординарных споров о достоверности (недостоверности) информации, об обеспечении доступа к информации, обеспечении соблюдения правового режима информации (государственная, коммерческая, профессиональная тайны) информационное благо, воплощаемое в цифровых правах, не нуждается в объективной верификации. И, кроме того, оно является экономическим активом. Следовательно, споры о цифровых правах обладают по крайней мере тремя специфичными чертами: это споры об экономических активах; споры, относимые доказательства по которым заключены в самом предмете спора; споры о праве, не имеющем имущества, то есть с возможностью применения закона, следующего за субъектом, а не закона по месту расположения имущества.
Именно исходя из названных обстоятельств представляется разумной постановка вопроса о создании в Российской Федерации специализированной судебной инстанции, предназначенной для разрешения споров о цифровых правах, в которых хотя бы одна из сторон является резидентом (гражданином) Российской Федерации.
Сравнительно-правовой анализ позволяет утверждать, что данная мысль находит свое воплощение в право-порядках, поощряющих инвестиционную активность. Так, например, суд Международного финансового центра Дубая (DIFC) объявил о начале работы первого в мире Международного суда по цифровой экономике. Собственно, суды DIFC являются судами эмирата Дубай, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов, но независимы от судов Дубая и правительства Дубая. Статус этих судов основан на норме ст. 121 Конституции ОАЭ, позволяющей создавать свободные финансовые зоны и в границах этих зон исключать применение некоторых федеральных законов12. Поэтому Федеральным законом № 8 от 27 марта 2004 г. «О финансовых свободных зонах в Объединенных Арабских Эмиратах»13 разрешено создание свободной финансовой зоны в любом эмирате ОАЭ федеральным указом и реализовано приостановление в границах указанных зон всех федеральных гражданских и коммерческих законов. Таким указом применительно к рассматриваемому случаю является Федеральный указ № 35 от 24 июня 2004 г.14, во исполнение которого правительством приняты документы об установлении границ DIFC и о разрешении органам публичной власти и резидентам работать за пределами DIFC в течение первых четырех лет. И уже Законом Дубая № 12 от 2004 г. созданы суды особой финансовой зоны, состоящие из двух инстанций (первая и апелляция)15. Изменениями к данному закону 31 октября 2011 г. (Закон Дубая № 16) его юрисдикция распространена на любые споры (не только резидентов зоны) на основании договорной подсудности сторон.
В 2022 г. названный суд рассмотрел первые споры в сфере цифровых прав, и в настоящее время в регламент суда (процессуальные основы рассмотрения спора) включена гл. 58, регламентирующая особенности рассмотрения споров о цифровых правах. Среди этих особенностей стоит указать наличие в составе суда специализированного судьи, общий электронный порядок судопроизводства по умолчанию. Особенно стоит процитировать ст. 58.11, согласно которой суд наделен компетенцией «…at any time make an order authorising and directing the Registrar, a Judicial Officer or any other person in accordance with Rule 20.7 to operate, modify, sign or cancel any digital asset using any digital signature, cryptographic key, password or other digital access or control mechanism available to it», то есть «…в любое время вынести предписывающий акт об эксплуатации, изменении, удостоверении или аннулировании любого цифрового актива с использованием любой цифровой подписи, криптографического ключа, пароля или другого доступного ему механизма цифрового доступа или контроля»16.
СТАТ Ь И
Эта потрясающая норма возвращает цифровые права в ортодоксальное правопонимание, согласно которому верификация актива (опровержение верификации, то есть признание права отсутствующим) осуществляется органом судебной власти, а не самим активом, либо информационной системой, для эксплуатации в которой он предназначен. Правоведы из ОАЭ значимо продвинули правопонимание цифровых прав и, очевидно, сформируют правоприменительную практику, опыт которой будет востребован не только судами общего права, к которому относятся суды DIFC, но и другими правовыми семьями, в том числе и российской правовой системой.
Подводя итоги изложенному, следует заключить, что, во-первых, специфичность цифровых прав как объектов гражданского оборота во многом основана на свойстве самоверификации принадлежности цифрового права субъекту прав и обязанностей в параметрах определенной информационной системы. Во-вторых, данное обстоятельство не отменяет информационной природы цифровых прав и, соответственно, не опровергает судебной возможности рассмотрения споров, предметом которых выступают цифровые права, как споров, связанных с оборотом информации. В-третьих, осмысление опыта судебного разрешения споров, предметом которых выступают цифровые права, позволяет мотивировать предложение о необходимости создания в российской правовой системе специализированного суда, наделенного полномочиями, дозволяющими, изменяющими и запрещающими оборот любого цифрового права. Подсудность дел такому суду возможна в переходный период в качестве договорного обстоятельства при вовлечении цифрового права в гражданский оборот, а в последующем — в качестве обязательной процедуры, предназначенной для разрешения споров, предметом которых выступают цифровые права.
Список литературы Судопроизводство о цифровых правах в условиях становления самостоятельного процессуального института
- Василевская Л. Ю. Токен как объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права. Актуальные проблемы российского права, 2019. № 5 (102). С. 111-119. EDN: JJDEPV
- Лаптев В. А. Цифровые активы как объекты гражданских прав. Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018. № 2 (42). С. 199-204. DOI: 10.24411/2078-5356-2018-10031
- Майборода В. А. Цифровое согласование градостроительной деятельности в федеральной территории "Сириус ". Юрист, 2021. № 12. С. 70-75. EDN: DSMXZE
- Нестеров А. В. Соотношение правовых категорий приватности, секретности (тайны) и конфиденциальности. Юридический мир, 2019. № 7. С. 37-41. EDN: QHDKSL
- Овчинников А. И., Фатхи В. И. Цифровые права как объекты гражданских прав. Философия права, 2019. № 3 (90). С. 104-111. EDN: MZCSMJ
- Сафаева Н. Р. Имитация корпоративного спора как способ преодоления законной силы судебного акта. Вестник гражданского процесса, 2020. № 4. С. 295-313. EDN: CVTAHM
- Суханов Е. А. О гражданско-правовой природе "цифрового имущества". Вестник гражданского права, 2021. № 6. С. 7-29. DOI: 10.24031/1992-2043-2021-21-6-7-29 EDN: DPVLYS
- Терентьева Л. В. Общеправовая презумпция jura novit curia и отраслевая презумпция jura aliena novit curia международного гражданского процесса. Право. Журнал Высшей школы экономики, 2018. № 3. С. 195-213. DOI: 10.17323/2072-8166.2018.3.195.213 EDN: GUNYTP
- Юзефович Ж. Ю., Хазова В. Е. Цифровые права как объекты гражданских прав. Гражданское право, 2022. № 5. С. 15-18. EDN: OQJLWM
- Яо Б. Сделка, заключаемая с использованием онлайн-платформ, как правовое явление в Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Юрист, 2022. № 4. С. 28-33. EDN: GMRMZC