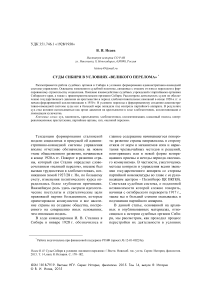Суды Сибири в условиях "великого перелома"
Автор: Исаев Виктор Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается работа судебных органов в Сибири в условиях формирования административно-командной системы управления. Освещены изменения в судебной политике, связанные с отказом от нэпа и переходом к форсированному строительству социализма. Показано взаимодействие судебных учреждений с партийными органами Сибирского края, а также с правоохранительными органами Сибири. Рассмотрена деятельность судов по обеспечению государственного давления на крестьянство в период хлебозаготовительных кампаний в конце 1920-х гг. и начала форсированной коллективизации в 1930 г. В условиях перехода к форсированному созданию административно-командной системы суды все в большей мере попадали под контроль партийного аппарата. В результате суд стал активно использоваться как орган давления на крестьянство в ходе хлебозаготовок, коллективизации и ликвидации кулачества.
Суд, законность, крестьянство, хлебозаготовки, коллективизация, классовый подход, контрреволюционные преступления, партийные органы, нэп, "великий перелом"
Короткий адрес: https://sciup.org/147219422
IDR: 147219422 | УДК: 351.746.1
Текст научной статьи Суды Сибири в условиях "великого перелома"
Тенденции формирования сталинской модели социализма и присущей ей административно-командной системы управления вполне отчетливо обозначились на новом этапе общественного развития, начавшемся в конце 1920-х гг. Поворот в развитии страны, который сам Сталин определил словосочетанием «великий перелом», внешне был вызван трудностями в хлебозаготовках, возникшими зимой 1927/28 г. Но, по большому счету, изменения политического курса определялись более глубокими причинами. Важнейшую роль здесь сыграли идеологические постулаты и стратегические цели правившей партии большевиков, которые ориентировали коммунистов и все население страны на создание общества, построенного на совершенно иных основаниях, чем нэповская модель.
В ходе командировки И. В. Сталина в Сибирь в январе 1928 г. обозначилось и главное содержание начинавшегося поворота: развитие страны направлялось в сторону отказа от норм и механизмов нэпа и нарастания чрезвычайных методов и решений, повторявших или в новой форме возвращавших приемы и методы периода «военного коммунизма». В частности, ужесточались методы контроля и управления всеми звеньями государственного аппарата со стороны партийной номенклатуры во главе с ее руководящим центром – Политбюро ЦК ВКП(б). Советская судебная система, о подлинной независимости которой сложно говорить, начиная с октябрьского переворота 1917 г., также все в большей степени оказывалась в подчинении партийного аппарата.
В данной статье, основанной на архивных и опубликованных материалах, относящихся к истории судебных органов Сибири, мы рассмотрим, как проходил процесс перестройки их деятельности в условиях
«великого перелома» и встраивания в складывавшуюся административно-командную систему. Территориальные рамки нашего рассмотрения заданы границами Сибирского края, а хронологические охватывают наиболее «переломные» годы: 1928–1930 гг.
В начале 1928 г., после известного выступления И. В. Сталина на совещании в Сибкрайкоме ВКП(б), в котором он обвинил работников правоохранительных органов Сибири в потере классового чутья и смычке с кулаком, партийные комитеты почувствовали себя просто обязанными более настойчиво вмешиваться в деятельность судов, многие судьи были отстранены от работы. После жесткой критики и откровенного подстегивания суды Сибири более рьяно стали осуществлять давление на крестьянство в интересах государства. В частности, чтобы вынудить крестьян активно сдавать государству хлеб, в судебном порядке жестко взыскивались недоимки по уплате налогов, платежи по ссудам, кредитам и т. п. Например, в 1927 г. категория таких судебных дел в Томском округе составляла 20 % от всех дел по имущественным взысканиям, а в 1928 г. их доля достигла 67 % 1.
О количестве судебных решений по данной категории дел можно судить по сведениям из Бийского округа. Только в январе 1928 г. за злостную неуплату сельхозналога здесь по судебным решениям было описано имущество 1 973 хозяйств, по делам 100 крестьян прошли показательные судебные процессы. Суды приняли 9 661 решение о взыскании по просроченным ссудам, на 4 208 крестьянских хозяйств были наложены штрафные санкции за задолженность по другим платежам 2.
В целом, по Сибирскому краю усиленный сбор недоимок с крестьян по различным платежам привел к вынесению большого количества судебных решений о взыскании долгов. Только в январе-апреле 1928 г. народные суды Сибирского края вынесли свыше 56,9 тыс. судебных решений о взыскании с крестьянства недоимок на сумму 2,9 млн руб. в пользу государственных и кооперативных органов 3.
В ходе хлебозаготовок изобретались разнообразные формы использования судебной системы для устрашения и наказания крестьян. В судах в ускоренном порядке проходило массовое рассмотрение дел «саботажников» хлебозаготовок. Виновным в сокрытии хлебных излишков, угрозах в адрес советских работников, террористических действиях суды выносили скорые и суровые приговоры.
Вполне естественные проявления недовольства и критики в адрес советской власти в этих условиях могли стоить крестьянам жизни. В период с 1 сентября 1928 г. по 30 марта 1929 г. по ст. 58-10 краевой суд рассмотрел дела на 107 чел., в большинстве случаев по обвинению в антисоветской агитации на почве недовольства хлебозаготовками. Среди обвиняемых по сведениям из судебных протоколов 40 чел. (37,6 %) были объявлены кулаками, 22 (20,6 %) – зажиточными, 30 (28,0 %) – середняками и 11 (10,2 %) – бедняками. Наказания по этим делам выносились судами достаточно суровые. 29 (27,1 %) обвиняемых были осуждены к исключительной мере наказания – расстрелу, 75 (70,1 %) – к лишению свободы от 2 до 4 лет 4. Приведенные сведения также показывают, что недовольство политикой советского государства охватывало не только «кулаков», но и все социальные слои сибирского крестьянства.
Давление на судебные органы со стороны партийных комитетов стало доходить до грубейших нарушений закона и игнорирования постановлений даже самых высших судебных инстанций. Весной 1928 г. Верховный суд РСФСР истребовал в порядке надзора из Каменского окружного суда (Сибирский край) дело по обвинению крестьянина Анохина по ст. 107 УК. Изучив дело и выявив грубые нарушения закона, Верховный суд предложил окрсуду приостановить исполнение приговора в отношении Анохина и освободить его из-под стражи. Однако по требованию секретаря Каменского окружкома ВКП(б) Анохин из мест заключения не был освобожден на том основании, что его возвращение в родную деревню якобы сорвет хлебозаготовки. Сибкрайком ВКП(б) поддержал Каменский окружком и вынудил председателя Сибирского краевого суда М. В. Кожевникова направить письмо в Верховный суд с предложением отменить определение в отношении дела Анохина и дать соответствующие распоряжения Каменскому окрсуду 5.
Все чаще на самом высоком уровне звучали предложения судебным работникам в борьбе за законность отказаться от так называемого формально-юридического подхода к разрешению вопросов, придерживаясь, прежде всего, классового принципа и партийности. Подобные требования содержались, например, в докладе наркома юстиции Н. М. Янсона на VI Всероссийском съезде работников юстиции, проходившем в феврале 1929 г. Второе всероссийское совещание руководителей краевых и окружных судебно-прокурорских органов, состоявшееся в ноябре 1929 г., приняло резолюцию, согласно которой судьям предписывалось использовать «минимум формы и максимум классового содержания в судебных делах, где речь идет о врагах нашего класса» (Еженедельник советской юстиции. 1929. № 48. С. 1134).
В Сибири местные партийные органы ужесточили воздействие на работников судебной системы, требуя от них более решительно применять судебные репрессии против противников советской власти. 31 июля 1928 г. Сибкрайком ВКП(б) утвердил постановление «О работе судебных органов», в котором подчеркнул, что имеется много случаев несоблюдения классового подхода, формализма и волокиты. При рассмотрении дел перед судьями ставилось требование «неуклонно исходить из выдвинутых XV съездом партии и апрельским (1928 г.) пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б) задач более решительного наступления на частно-капиталистический сектор хозяйства… проводя судебную политику так, чтобы лозунги XV съезда находили свое отражение при каждом разрешении дела… Все это должно проводиться на основе революционной законности, одновременно изживая формальное (на основе буквы закона) разрешение дел. Каждое судебное решение должно быть тесно связано с текущими политическими задачами» (Известия Сибкрай-кома ВКП(б). 1928. №14/15. С. 6, 7).
Требования соблюдать основы законности и одновременно изживать формализм, ориентировать судебные решения на выполнение политических задач не только противоречили друг другу, но и подрывали нэповский правопорядок, так как открывали дорогу произволу. Между тем подобная «формула новой законности» стала не только главным вектором в судебной политике, но и одним из критериев проверки на лояльность работников органов юстиции.
Но, видимо, еще не все работники судебной системы Сибири готовы были отказаться от строгого соблюдения законов. Так, секретарь Барнаульского окружкома в беседе с представителями краевого суда, проводившими весной 1929 г. фронтальное обследование судов округа, пожаловался, что «в работниках суда округа не чувствуется действительных помощников в работе» 6. Такое высказывание позволяет предположить, что определенная часть судей пыталась следовать нормам права, еще не веря до конца, что прошла пора, когда можно было держаться в рамках законности, что в новых условиях они должны судить не по закону, а по приказу партии.
На преодоление «небольшевистских» настроений среди судебных работников была направлена организационная и разъяснительная работа Сибирского краевого суда. Так, в отчетном докладе о работе судебного аппарата Сибирского края за 1928 г. отмечалось, что руководство краевого суда ставило задачу перед судебными работниками отказаться от приверженности «к работе по инструкции, по заведенному порядку» (так стало обозначаться строгое соблюдение законов. – В. И. ), уметь «ухватиться в каждый данный момент за основное звено», проявлять «гибкость и умение самостоятельно и быстро претворять в жизнь даваемые партией и правительством политические установки, в т. ч. постановления XV съезда» 7.
В директиве председателя Сибирского краевого суда Г. Я. Мерэна, направленной в судебные учреждения 11 февраля 1929 г., от всех судебных работников требовалось, чтобы «…решение или приговор всегда были увязаны с текущими политическими задачами» 8.
В условиях обострения общественнополитической ситуации, усиления противостояния различных социальных сил участились явные и скрытые нарушения законности. Надо подчеркнуть, что нарушения законности в значительной степени провоци- ровались и поощрялись партийными органами, которые были заинтересованы в давлении на крестьянство в целях скорейшего проведения хлебозаготовок и коллективизации. Так, в январе 1929 г. сотрудники краевого суда и краевой прокуратуры обследовали состояние дел в Рубцовском окружном суде и окружной прокуратуре. Население округа неоднократно обращалось в краевые органы с жалобами на нарушения законности со стороны местных правоохранительных органов. В ходе проверки выявилось, что осенью 1928 г. бюро Рубцовского окружного комитета ВКП(б) приняло директиву о том, что должны быть проведены пять-шесть судебных процессов по ст. 58 УК РСФСР с участием широкой общественности. В ходе «организации» уголовных дел допускалась откровенная фальсификация: вначале парторганы намечали кандидатов для осуждения, а уже затем к ним подбирались материалы, находили свидетелей, и подсудимые приговаривались к суровым мерам наказания. Проверка краевого суда показала, что из 37 дел, проведенных судами по 58-й статье, 19 были сфабрикованы. В результате вмешательства краевого суда такие дела были прекращены 9.
Перечисленные факты убедительно показывают, что, перейдя к политике «развернутого строительства социализма», сопровождавшейся «решительным наступлением на капиталистические элементы города и деревни», большевистская партия стремилась использовать судебную систему как один из наиболее действенных инструментов влияния на общество.
Наиболее ярко эти тенденции отразились в некорректном применении статьи 107 УК РСФСР. В связи с невыполнением плана хлебозаготовок в январе 1928 г. партийные органы Сибири по предложению Сталина инициировали применение против крестьян ст. 107, предусматривавшей уголовное преследование за спекуляцию. Следует отметить, что нежелание крестьян продавать хлеб государству по низким ценам было вполне объяснимым с точки зрения экономических интересов крестьянского хозяйства. Но по указанию партийных органов такая позиция крестьян была неправомерно отождествлена с деятельностью спекулянтов на рынке.
Действительно, в ст. 107 УК РСФСР перечислены такие действия спекулянтов, как скупка и невыпуск товара на рынок с целью создания искусственного дефицита, подъема цен и получения высокой прибыли. Но крестьяне сами производили хлеб, поэтому в их действиях не было состава преступления, так как не было первого этапа – скупки товара. Несмотря на это, нежелание крестьян продавать свой хлеб государству по ценам, их явно не устраивающим, было приравнено к действиям спекулянтов. С точки зрения реального содержания правовой нормы это было явной натяжкой. Но что могли возразить юристы, если решение об использовании ст. 107 УК РСФСР против крестьян было принято на самом высоком уровне. Применение расширенного толкования ст. 107 в феврале 1928 г. было одобрено и санкционировано директивой Политбюро ЦК ВКП(б), разосланной на места (подробнее об этом см.: [Иконникова, Угроватов, 1991; Ильиных, 2006]).
В 1928 г. суды Сибири стали активно использовать ст. 107-й УК на первых порах против зажиточных крестьян, выступавших в роли крупных хлеботорговцев. В дальнейшем, после разработки так называемого урало-сибирского метода хлебозаготовок, под действие этой статьи стали попадать не только замеченные в хлеботорговле, но практически все крестьянские хозяйства, имевшие какие-либо запасы хлеба.
Применение ст. 107 УК РСФСР сопровождалось беззастенчивым диктатом по отношению к суду со стороны партийных органов и вопиющими нарушениями закона. Бюро Сибкрайкома ВКП(б) приняло решение, в котором потребовало от судебных работников дела по 107 статье проводить в ускоренном порядке, рассматривать их на выездных сессиях и показательных процессах без участия защиты. В совместном циркуляре краевого суда, краевой прокуратуры и Полномочного Представительства ОГПУ, направленном на места 19 января 1928 г., были зафиксированы эти противозаконные требования партийного руководства края. Более того, в явном противоречии с основами права народным судам при рассмотрении дел по ст. 107 запрещалось выносить оправдательные приговоры или условное наказание [Новосибирский областной суд, 2003. С. 95].
Это циркулярное письмо является очень показательным: под давлением партийных органов руководство краевого суда и прокуратуры, обязанное по долгу службы пресекать неправомерные действия, отправляет на места требования, грубо нарушающие основополагающие нормы права. По существу судебное разбирательство в таких условиях превращалось в расправу над крестьянами, представавшими в качестве подсудимых. Правда, позднее некоторые крайности циркуляра были устранены по распоряжению старшего помощника Прокурора РСФСР Н. В. Крыленко от 25 февраля 1928 г., но в целом нарушения закона сопровождали всю кампанию хлебозаготовок в 1928, а затем в 1929 и 1930 гг.
В ходе борьбы за хлеб к середине 1928 г. только по ст. 107 УК РСФСР более 2 240 крестьян в Сибирском крае были осуждены к лишению свободы с конфискацией имущества. При этом, несмотря на декларации властей о наказании только спекулянтов и кулаков, под суд попадали середняки и даже бедные крестьяне. В составе осужденных по ст. 107 около 20 % крестьян по имущественному положению находились на среднем уровне, а около 1 % и вовсе относились к бедноте [Новосибирский областной суд, 2003. С. 96].
Это говорит о том, что суды, выполняя указания партийных органов о привлечении в каждом округе или районе определенного количества «злостных несдатчиков хлеба», вынуждены были привлекать по 107-й статье не только реальных обладателей хлебных запасов, но и не имевших излишков крестьян, которые попадали под суд просто для устрашения остальных. Если в первые месяцы 1928 г. основанием для привлечения к суду по 107-й статье было только наличие у крестьян хлебных излишков, то весной суды при рассмотрении дел по этой статье начали использовать весьма расплывчатый термин: «злостное сопротивление хлебозаготовкам», что позволяло осуждать середняков и даже бедняков. В результате процент середняков среди осужденных поднялся с 7 % в первые месяцы 1928 г. до 20 % к лету.
Кроме того, это показывает, что в ходе хлебозаготовительной кампании 1928 г. запасы хлеба в Сибири были в основном исчерпаны, властям приходилось изымать так называемые страховые запасы у небогатых крестьян. В докладе краевого суда и краевой прокуратуры «Об участии органов прокура- туры и суда в хлебозаготовительной кампании по Сибирскому краю за время с 1 апреля по 15 июля», направленном 31 июля 1928 г. прокурору РСФСР, отмечалось, что к лету 1928 г. хлеба у сибирских крестьян оставалось мало, и усилия властей обеспечить его изъятие привели «к росту перегибов и нарушений революционной законности» [Хлебозаготовительная политика, 2006. С. 187].
Выразительным документом, зафиксировавшим серьезные деформации законности в ходе хлебозаготовительной кампании 1928 г., является сохранившаяся в архивных документах стенограмма выступления председателя Сибкрайисполкома Р. И. Эйхе на совещании в Сибкрайкоме ВКП(б) 13 апреля 1928 г. В ней в концентрированном виде отразились уровень допущенного произвола и нарушения законности в период кампании по хлебозаготовкам. В своем выступлении Эйхе вынужден был признать: «У нас, конечно, были промахи. Их было бесконечно много. Я считаю, что одной из наших ошибок было то, что мы установили несостязательный порядок судебных процессов. Мы установили процесс ускоренного, упрощенного порядка. Это, пожалуй, было ошибкой. Тогда установить состязательные процессы было бы лучше. Но мы потому их не установили, потому что боялись, что нам не удастся раскачать соответствующий комплект работников низового аппарата. Тогда это боязнь взяла у нас верх… Второй момент, на котором необходимо остановиться, это отмена, или вернее отказ в кассациях. У нас допускаются разные загибы, уклоны и извращения. Поэтому нужно будет отменить отказ от кассации, иначе мы будем иметь еще много неприятностей…» 10.
Рассматривая изменения в судебной политике, следует вспомнить, что в 1928 г. в руководстве страны развернулась борьба между защитниками нэпа, так называемыми правыми уклонистами, и сторонниками генеральной линии партии, приверженцами Сталина, поддерживавшими курс на форсированную индустриализацию и коллективизацию. Поэтому в решениях партийных органов отразились как попытки сохранить НЭП и нэповскую законность, так и стремление решительно покончить с ними. Так, апрельский (1928 г.) объединенный пленум
ЦК и ЦКК ВКП(б), перечислив извращения, допущенные на местах со стороны партийных и советских органов, объявил им самую решительную борьбу, а лозунг XV съезда – развивать наступление на кулачество – потребовал осуществлять на основе новой экономической политики, «на почве строгого проведения революционной законности пролетарского государства». В решениях пленума было записано что «по мере ликвидации затруднений в хлебозаготовках должна отпасть та часть мероприятий партии, которая имела экстраординарный характер» [КПСС в резолюциях…, 1984. С. 319–320].
Июльский (1928 г.) пленум ЦК ВКП(б) предложил в ходе новой хлебозаготовительной кампании вообще исключить «необходимость применения каких бы то ни было чрезвычайных мер… и всякого рода нарушений революционной законности». Постановление Совнаркома СССР от 19 июля 1928 г. «Об отмене применявшихся в минувшую хлебозаготовительную кампанию чрезвычайных мер» закрепило решение пленума в законодательном порядке, обязав суд и прокуратуру твердо защищать революционную законность.
Применение ст. 107 УК против крестьян являлось одной из таких экстраординарных мер. Двадцатого июля 1928 г. Сибкрайком ВКП(б) направил судебным органам директиву о прекращении ее применения. На некоторое время стремление к восстановлению законности возобладало. (Но это вовсе не означало окончательного отказа от подобных методов давления на крестьян. В частности, к применению ст. 107 вернулись в ходе хлебозаготовительных кампаний в 1929 и в 1930 гг.) Совместный циркуляр краевого суда и краевой прокуратуры от 14 сентября 1928 г. предлагал органам юстиции в предстоящую хлебозаготовительную кампанию бороться с рецидивами чрезвычайных мер 11.
Тридцатого ноября 1928 г. в Сибкрайком партии и Сибкрайисполком Советов поступила телеграмма, подписанная И. В. Сталиным и А. И. Рыковым, в которой говорилось: «Усилить проведение всех мероприятий, связанных с извлечением денег из крестьянского хозяйства на базе полного соблюдения революционной законности в установленные законом сроки» 12.
Приведенные директивы, казалось бы, ориентировали работников юстиции на сохранение нэповской законности и сдерживали власти в применении чрезвычайных мер. Но в результате победы сталинской линии на усиление классовой борьбы ноябрьский (1928 г.) пленум ЦК ВКП(б) объявил решительное наступление сил социализма [КПСС в резолюциях…, 1984. С. 373–374, 381–382]. Акцент в партийных решениях на усиление классовой борьбы отражался и в понимании советской законности. Терял свое значение правовой подход, учитывавший интересы и потребности отдельного гражданина. Суд и право превращались в орудие достижения идеологизированных целей государства путем администрирования и насилия.
Многие сибирские юристы понимали, что в новых условиях необходимо хотя бы попытаться отстоять законность. В частности, было очевидно, что расширенное толкование ст. 107 УК РСФСР противоречит как букве закона, так и здравому смыслу. Поэтому некоторые судьи и прокуроры пытались ограничить ее применение, прибегая к обвинениям по данной статье только в случае выявления крупных партий хлебных запасов у зажиточных крестьян.
Отражение этой позиции можно встретить даже в руководящих указаниях, поступавших низовым судебным работникам. Двадцать второго июня 1929 г. Сибирский краевой суд совместно с краевой прокуратурой разослал на места циркулярное письмо, в котором говорилось: «Считаем необходимым особо подчеркнуть, что применение ст. 107 УК возможно исключительно лишь в отношении наиболее злостных кулаков и при установлении элементов злостности сокрытия значительного количества хлеба (300– 400 пудов).
Дела эти должны расследоваться и рассматриваться в самом срочном порядке. Предание суду должно производиться в каждом отдельном случае с разрешения окр-прокурора, причем, как правило, дел по ст. 107 УК не может быть более 1 или 2-х в районе» [Хлебозаготовительная политика…, 2006. С. 122–123].
Как видно из содержания письма, руководители краевого суда и прокуратуры, требуя от низовых работников активно использовать в борьбе за хлеб ст. 107 УК РСФСР, в то же время пытались подчеркнуть необходимость крайне осторожного и выборочного ее применения. Но на практике местные партийные органы, получив в руки такое эффективное средство устрашения крестьян, требовали от судей не останавливаться перед его применением против любого крестьянского хозяйства. Под давлением партийных органов судьи осуждали по ст. 107 не только кулаков, но и середняков и даже бедняков.
Откровенный нажим, а зачастую и произвол местных партийных органов не могли не вызывать протеста у сотрудников правоохранительных органов. На VI Всероссийском съезде работников юстиции, состоявшемся 25–26 февраля 1929 г., обостренное внимание привлекли выступления делегатов из Сибири: народного судьи Беликова из Кузнецкого округа и омского окружного прокурора Кайкова. Сибирские юристы возмущались нарушениями закона со стороны партийных органов и пытались найти поддержку у коллег и руководства наркомата юстиции.
Беликов в своем выступлении заявил: «Местные партийные организации не руководят порой, а дергают, и из этого получается коверкание законности». Так, по некоторым делам местные власти требовали от судов применения к подсудимым лишения свободы, хотя санкции статей УК, по которым они обвинялись, не предусматривали такого наказания; суды были вынуждены поддаваться этому нажиму 13.
Особенно резким было выступление омского окружного прокурора Кайкова, который обобщил сложившееся положение следующим выводом: «Партийные органы стали целиком командовать и прокуратурой, и судом, и следователями». Он обратился с вопросом к присутствовавшим коллегам и руководству наркомата юстиции: «Что делать? Драться или становиться еще гибче?» 14.
На жестко поставленный Кайковым вопрос в выступлении наркома юстиции Янсона прозвучал довольно уклончивый ответ: «Прокурорские и судебные органы на местах, как непреложное правило, должны наладить тесную деловую связь с партийными комитетами, своевременно сигнализируя им и НКЮ о всех непорядках, направленных против интересов советского общества. В то же время эта связь не должна превращаться в такие взаимоотношения, когда теряется лицо прокурорского, судебного и следственного органа, и он превращается в безвольного и безответственного исполнителя директив чуть ли не по каждому даже малозначительному делу. Наилучшей формой взаимоотношений является полная последующая ответственность суда и прокуратуры за свои решения и действия перед соответствующими руководящими партийными органами и установление порядка обсуждения систематических докладов суда и прокуратуры на заседаниях этих органов» 15.
В трактовке Янсона задачи органов юстиции сводились к выполнению политической задачи, по существу, предлагалось не просто подконтрольное парткомам положение органов юстиции, но их полная зависимость. Такое же понимание роли и задач судебных органов Сибири продемонстрировал секретарь Сибкрайкома ВКП(б) Р. Эйхе на заседании бюро крайкома 15 октября 1929 г., на котором он выдвинул в качестве главного требования к работникам юстиции следующий лозунг: «Ни шагу в сторону от директив партии о решительном наступлении на кулака» (Советская Сибирь. 1929. 22 окт.).
В результате предпринятых усилий партийному и советскому руководству сибирского региона удалось добиться того, что сибирские суды стали вполне боеспособными в преследовании так называемых «классовых врагов». В ходе хлебозаготовительных компаний 1928–1930 гг. под давлением партийных органов суды Сибири существенно ужесточили меры наказания по отношению к подсудимым, обвинявшимся в сопротивлении властям или совершении других «контрреволюционных» преступлений.
Дела, в которых власти усматривали контрреволюционное содержание, как правило, выносились на рассмотрение в показательных судебных процессах. Их задачей было, с одной стороны, устрашение потенциальных противников, а с другой – доведение до населения, которое обязывалось посещать такие показательные процессы, основных требований к гражданам со стороны государства. Так, в октябре-декабре 1929 г. около 50 % дел по обвинению в контрреволюционных преступлениях окружные суды Сибирского края слушали в выездных сессиях и показательных процессах по месту жительства обвиняемых 16.
В сложившейся общественно-политической атмосфере судьи в меньшей степени стали обращать внимание на нормы права, требования закона, а, прежде всего, стремились действовать в соответствии с политическими задачами, лозунгами наступления на классового врага, выдвигаемыми партией.
В практику судопроизводства стали внедряться чрезвычайные методы. Так, в июле 1929 г. в Рубцовском округе по инициативе окружкома ВКП(б) для ударного проведения уголовных дел против несдатчиков хлеба было организовано 10 выездных сессий суда. Возглавлялись они не профессиональными судьями, а партийными работниками, с нормами судопроизводства совершенно не знакомыми. В результате ни одно из 120 дел, рассмотренных этими судами, не соответствовало нормам уголовно-процессуального законодательства. В подавляющем большинстве случаев дознание не проводилось, процессуальные нормы не соблюдались, судебные разбирательства происходили на следующий же день после открытия дел.
Из бумаг, приложенных к протоколам судебных заседаний, трудно было даже определить социальный статус осужденных. Имущественное положение подсудимых «судьями» всерьез не выяснялось, ограничивались голословным указанием – «кулак». Всего было осуждено 259 чел., из которых краевой суд освободил от наказания 200 чел. только из-за нарушений УПК. Примерно такие же грубые нарушения законности были зафиксированы в Славгородском, Минусинском и других округах 17.
Проверка судебных дел по обвинению в контрреволюционных преступлениях, рассмотренных в судах Сибирского края в 1930 г., проведенная в надзорном порядке Верховным судом РСФСР, выявила, что «повсеместно наблюдается игнорирование норм материального и процессуального права: дела в суде рассматривались односторонне, в обвинительном заключении часто отсутствовали необходимые доказательства вины подсудимых» (Судебная практика РСФСР. 1930. № 11. С. 11–12).
Следствие, проводившееся, как правило, сотрудниками ОГПУ, стремилось объеди- нять в одно большое дело обвинения против явно не связанных между собою людей, чтобы представить их как крупную организованную контрреволюционную группу. Примечательно, что довольно часто судебные слушания проводились без вызова свидетелей или с привлечением только свидетелей со стороны обвинения. Как правило, судьи закрывали глаза явные натяжки и нарушения, штампуя заранее подготовленные приговоры. Но такие неправомерные приговоры не выдерживали никакой критики и при рассмотрении в порядке кассации зачастую пересматривались или вовсе отменялись. В 1930 г. краевой суд Сибири вынужден был прекратить более половины дел, направленных в суд следственными органами по ст. 58 УК РСФСР из-за явного нарушения норм материального и процессуального права (Там же).
В ходе показательных процессов на судебных заседаниях вновь зазвучала фразеология времен гражданской войны, пропитанная классовой ненавистью и требованиями безжалостно уничтожать врагов советской власти. Соответственно возросло число приговоров к высшей мере наказания, а сроки лишения свободы приближались к максимальным в то время десяти годам. В целом, по РСФСР в 1930 г. по делам о терроризме 2/3 осужденных получали сроки 8–10 лет, а к расстрелу приговаривалось около 17 % подсудимых [Классовая борьба и преступность, 1930. С. 8].
Образцы «революционного правосудия», возвращавшего раскаленную классовой ненавистью атмосферу гражданской войны, настойчиво пропагандировались периодической печатью. Так, газета «Советская Сибирь» в очерке об одном из показательных судебных процессов против кулаков сообщала: «Братья Кулаковы – Иван, Семен и Павел – матерые кулаки, севшие на шею бедноты д. Ивсеевой Иркутского округа. Особенно ненавидели Кулаковы сельского активиста Василия Шульгина, который предложил им отдать государству хлебные излишки и настоял привлечь их к индивидуальному обложению.
Кулаковы решили убить Шульгина и уговорили односельчанина Шуницина присоединиться к ним. Преступление предотвратили соседи. Иркутский окружной суд, разобравший их дело, признал подсудимых социально опасными и наиболее активного преступника Ивана Кулакова приговорил к высшей мере наказания. Остальных к разным срокам лишения свободы со строгой изоляцией» (Советская Сибирь. 1930. 12 марта).
Показательно, что приговор к высшей мере в данном случае вынесен не за совершенное преступление, а только за намерение. Но в атмосфере классовой ненависти это воспринималось как справедливое решение, о чем с удовлетворением и сообщала газета.
В процессе переориентации судов на выполнение политического заказа активное участие принимали органы ОГПУ, которые своими действиями демонстрировали, как следует применять принципы пролетарского правосудия. Чекисты работали в тесном контакте с судом и прокуратурой, поэтому органы ОГПУ стали опорой партийных руководителей в деле внедрения нового понимания законности в сознание судей. Сиб-крайком ВКП(б) 8 июня 1929 г. заслушал доклад руководителя сибирских чекистов Заковского «О политическом состоянии края», в котором суды были подвергнуты резкой критике. Принятая по итогам обсуждения резолюция крайкома была крайне жесткой по отношению к органам юстиции. Крайком обязал «краевого прокурора и председателя краевого суда принимать все необходимые меры к быстрому и правильному прохождению политических дел с тем, чтобы работа судебных органов действительно стала важнейшим рычагом классовой борьбы и отпора антисоветским элементам». Также было решено «принять самые резкие меры борьбы с разгильдяйством судебного и хозяйственного аппарата, а, в особенности, с волокитой при проведении политических дел и основных хозяйственных мероприятий» 18.
Меры борьбы «с разгильдяйством судебного аппарата» в Сибирском крае были приняты оперативно. Двенадцатого июня 1929 г. председатель краевого суда Сибири издал циркуляр, в котором объявил неприемлемыми сроки рассмотрения контрреволюционных дел в течение одного месяца, применявшиеся Барабинским, Барнаульским, Новосибирским и другими окружными судами. Краевой суд потребовал под личную ответственность председателей ок-рсудов указанные дела разбирать за две не- дели. При каждой задержке с рассмотрением более чем на один день предлагалось представлять в краевой суд объяснение 19.
Поддержка крайкомом партии претензий сотрудников ОГПУ к работе органов юстиции неблагоприятно отражалась на качестве судебных решений. В частности, это приводило к ослаблению надзора за законностью со стороны органов суда и прокуратуры. По оценке наркома юстиции РСФСР Н. М. Янсона, «архискверно проходят судебные дела (поступающие из Сибири в наркомат юстиции. – В. И. ), особенно по кулацкому наступлению» 20. Значительная часть приговоров была вынесена с нарушением норм материального и процессуального права.
Очевидно, что в деятельности судебных органов Сибири под воздействием жесткой критики все более торжествовали принципы «революционной целесообразности» вместо принципов законности. Однако чекистов все же не устраивали медленные темпы перестройки работы судов. В июле 1929 г. полномочное представительство ОГПУ по Сибирскому краю направило в Москву докладную записку «О рассмотрении судебно-следственными органами Сибири дел о кулацком терроре». В ней руководство сибирских чекистов выражало крайнюю неудовлетворенность карательной политикой судов, заявляя, что вместо решительного удара по кулаку судебно-следственные органы Сибирского края допускают волокиту и смазывают политическое значение контрреволюционных дел, сводя их к простой уголовщине.
Ссылаясь на рост напряженности и обострение классовой борьбы в сибирской деревне, сотрудники ОГПУ требовали более решительных мер со стороны судебных органов. «Кулацко-антисоветские элементы в целом, не будучи поставлены перед фактами быстрой и суровой кары, продолжали активно бороться с мероприятиями советского правительства, усиливая терроризирование советско-партийных работников», – считали сибирские чекисты [Трагедия советской деревни, 1999. Т. 1. С. 673–674].
Борьба двух точек зрения, а именно: необходимости сохранения и более гибкого использования нэповской законности или же отказа от нее и перехода к методам «чрезвычайщины», особенно ярко прояви- лась в споре о том, где рассматривать дела, имевшие политическое значение: в судах или в органах ОГПУ путем внесудебной расправы. Острое столкновение этих двух позиций произошло по вопросу о рассмотрении уголовных дел, возбужденных по фактам бандитизма за период с ноября 1929 г. по январь 1930 г., когда сибирский регион был объявлен неблагополучным по этому виду преступности.
Шестого сентября 1929 г. краевой прокурор и полномочный представитель ОГПУ по Сибирскому краю отправили на места совместную директиву, в которой для борьбы с бандитизмом, вооруженными грабежами и разбойными нападениями предусматривалась внесудебная расправа по линии ОГПУ. Краевой исполком Советов своим постановлением от 12 сентября 1929 г. признал необходимость внесудебных репрессий по делам о бандитизме и вооруженных ограблениях.
Против этой директивы резко выступил краевой суд, убедительно доказав, что уголовные дела по указанным видам преступности необходимо рассматривать только в судах, на основе полного соблюдения уголовно-процессуального законодательства 21. Тогда крайисполком обратился за поддержкой в столицу и 16 сентября 1929 г. направил письмо председателю Совнаркома РСФСР Сырцову и наркому юстиции Янсону, в котором настаивал на необходимости применения внесудебной репрессии по уголовным делам, возбужденным по факту совершения бандитизма и контрреволюционных преступлений.
Двадцать третьего сентября 1929 г. руководство Сибирского края получило телеграмму Наркомата юстиции РСФСР, подписанную также Прокурором ОГПУ Катаняном. Право на осуществление репрессий отдавалось органам ОГПУ, что открывало достаточно широкие возможности для произвола. Совнарком РСФСР также поддержал решение Сибкрайисполкома, соответствующая телеграмма поступила в Новосибирск 27 сентября 1929 г. 22 Можно констатировать, что в подобных демаршах сибирских чекистов прослеживалось явное стремление ОГПУ подчинить своему контролю деятельность судебных органов.
Жесткому давлению со стороны партийных органов судебная система подвергалась и в ходе форсированной коллективизации деревни, ставшей центральным стержнем сталинского «великого перелома». После относительно мирного периода сосуществования советской власти с крестьянством в целом, а также с его зажиточной частью, руководство партии и государства решило взять курс на «ликвидацию кулачества как класса».
Основные положения кампании были сформулированы в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. « О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Для рассмотрения «кулацких» дел полномочным представительством ОГПУ по Сибирскому краю создавались так называемые «особые тройки», в которые входили представители ОГПУ, руководители соответствующего комитета ВКП(б) и работники прокуратуры. Таким образом, в кампании разгрома зажиточного крестьянства ведущую роль должны были играть внесудебные репрессии.
Однако судам также отводилось важное место: они должны были выполнить свою задачу путем организации показательных процессов против кулаков и противников колхозов. Такие процессы должны были убедить сельское население в необходимости создания колхозов и ликвидации зажиточного слоя крестьянства. Пятого февраля 1930 г. краевой суд и краевая прокуратура направили на места директивное письмо «О задачах судорганов края в связи с коллективизацией, проведением весенней посевной кампании и ликвидации кулачества как класса». В нем от судов требовалось проводить жесткую политику «беспощадной борьбы с помощью судебной репрессии со всеми контрреволюционными выступлениями кулака… со всеми видами кулацкой агитации против колхозного строительства» 23.
Об усилении роли суда в проведении коллективизации свидетельствовала судебная статистика. Только за период с сентября 1929 г. по май 1930 г. судами Сибири были осуждены по ст. 58 УК РСФСР 6 843 чел. Среди них большинство составляли так называемые «кулаки» – 85,6 %, середняков было 9,2 %, бедняков – 2,5 %, прочих – 2,7 %. К высшей мере были приговорены 120 чел. (2 %), к ли- шению свободы на срок до 3 лет – 56,7 %, осужденных на срок от 3 до 10 лет – 11,2 %, условно осуждены – 1 %, приговорены к принудительным работам – 8,8 %. Кроме того, в качестве дополнительной меры ссылка была определена для 15,8 % осужденных, высылка – 59,9 %, конфискация имущества – 46,6 %, штраф – 11,4 % осужденных [Работа органов юстиции Сибкрая, 1930. С. 9].
Только за октябрь 1930 г. в Западно-Сибирском крае было осуждено к лишению свободы 43 «кулака», к принудительным работам – 11, к выплате штрафа – 9, к высылке и ссылке – 24 кулака 24. Судебные процессы против кулаков по обвинению их в укрывательстве хлеба, злостной агитации против организации колхозов, угрозах в адрес деревенских коммунистов и активистов проводились в это время в ускоренном порядке, в форме открытых и показательных процессов, призванных запугать крестьян и сломить их сопротивление. На таких процессах жители данной местности должны были присутствовать в обязательном порядке, местные органы власти обеспечивали массовую явку населения.
Уголовное и судебное преследование зажиточной части крестьянства должно было показать всем жителям деревни, что ставка на развитие собственного хозяйства бесперспективна, альтернативы вступлению в колхоз нет. В 1930 г. в Сибирском крае было ликвидировано 76,3 тыс. «кулацких» хозяйств. В том числе суды приняли решения о ликвидации 14,7 тыс. хозяйств, подвергшихся конфискации за невыполнение пятикратного самообложения по хлебозаготовкам, а также 10,6 тыс. хозяйств, попавших по различным другим причинам под ликвидацию [Гущин, Ильиных, 1987. С. 214]. Следовательно, в сибирском регионе около трети кулацких хозяйств было уничтожено по решениям судов, якобы «в законном порядке».
Подводя итоги рассмотрения ситуации, в которой оказались судебные учреждения Сибири в 1928–1930 гг., можно сделать следующие выводы. Положение и роль судебных органов в системе регионального управления за этот период существенно изменились. В условиях перехода к форсированному созданию административно-командной системы суды все в большей мере попадали под контроль партийного аппарата. В результате суд стал активно использоваться как орган давления на крестьянство в ходе хлебозаготовок, коллективизации и ликвидации кулачества. При этом суды, призванные отстаивать нормы права, превратившись в послушный элемент административно-командной машины управления, действовали зачастую с серьезными нарушениями законности.
Список литературы Суды Сибири в условиях "великого перелома"
- Гущин Н. Я. Ильиных В. А. Классовая борьба в сибирской деревне. 1920-е - середина 1930-х гг. Новосибирск: Наука, 1987. 214 с.
- Еженедельник советской юстиции. Орган наркомата юстиции РСФСР и Верховного суда РСФСР. 1929. № 48.
- Известия Сибкрайкома ВКП(б). Орган Сибкрайкома ВКП(б). 1928. № 14/15.
- Иконникова И. П., Угроватов А. П. Сталинская репетиция наступления на крестьянство // Вопр. истории КПСС. 1991. № 1. С. 70-81.
- Ильиных В. А. Урало-сибирский метод хлебозаготовок: поиски оптимального варианта // Гуманитарные науки в Сибири. 2006. № 2. С. 20-26.
- Классовая борьба и преступность. М.: Госиздат, 1930. 114 с.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд. М.: Политиздат, 1984. Т. 4. 575 с.
- Новосибирский областной суд. 1923- 2003: Летопись Новосибирского областного суда. Новосибирск, 2003. 350 с.
- Работа органов юстиции Сибкрая. Краткий отчет крайсуда и крайпрокуратуры за время: сентябрь 1929 - май 1930. Новосибирск, 1930. 17 с.
- Советская Сибирь. Орган Сибкрайкома ВКП(б) и Сибкрайисполкома Советов. 1929. 22 окт.; 1930. 12 марта.
- Судебная практика РСФСР. Орган Наркомата юстиции РСФСР. 1930. № 11.
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. М.: РОССПЭН, 1999. Т. 1: Май 1927 г. - ноябрь 1929 г. 879 с.
- Хлебозаготовительная политика Советского государства в Сибири в конце 1920х гг. Хроникально-документальный сборник. Новосибирск: Изд-во Института истории СО РАН, 2006. 258 с.