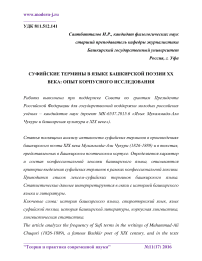Суфийские термины в языке башкирской поэзии ХХ века: опыт корпусного исследования
Автор: Саитбатталов И.Р.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 11 (17), 2016 года.
Бесплатный доступ
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных - кандидатов наук (проект МК-6537.2015.6 «Язык Мухаммада-Али Чукури и башкирская культура в XIX веке»). Статья посвящена анализу активности суфийских терминов в произведениях башкирского поэта XIX века Мухаммада-Али Чукури (1826-1889) и в текстах, представленных в Башкирском поэтическом корпусе. Определяется характер и состав конфессиональной лексики башкирского языка, описываются критерии выделения суфийских терминов в рамках конфессиональной лексики. Приводится список лексем-суфийских терминов башкирского языка. Статистические данные интерпретируются в связи с историей башкирского языка и литературы.
История башкирского языка, старотюркский язык, язык суфийской поэзии, история башкирской литературы, корпусная лингвистика, лингвистическая статистика
Короткий адрес: https://sciup.org/140267586
IDR: 140267586
Текст научной статьи Суфийские термины в языке башкирской поэзии ХХ века: опыт корпусного исследования
Арабские и персидские заимствования составляют значительную часть лексического фонда современного башкирского языка и входят в ряд достаточно многочисленных стилистических и тематических групп. Одной из них является религиозная, или конфессиональная лексика, под которой понимаются лексические единицы, функционирующие преимущественно в языке религии, то есть в «языке, которым пользуются люди в рамках их религиозного поведения»1. В силу того, что башкиры в течение долгого времени исповедовали и исповедуют ислам, конфессиональная лексика башкирского языка служит наименованию прежде всего реалий, связанных с мусульманской религией, этимологически восходит к арабскому и, реже, персидскому языкам. В этой группе может быть выделен ряд лексем, обозначающих предметы, явления и реалии, связанные с теорией и практикой тасаввуфа (суфизма) – религиозно-философской доктрины о непосредственном общении с божественным благодаря процессу многоступенчатого погружения мистика в тайны сверхчувственной реальности2. Следует отметить, что в филологических исследованиях под суфийскими терминами понимается достаточно широкий класс языковых фактов, охватывающий не только лексемы: «Понятие «суфийская терминология» в целом включает в себя на одном полюсе лексику, связанную с философией суфизма, например, наименования категорий суфийской доктрины, а на другом… образные варианты тех же категорий»3. Исследование столь обширного круга языковых явлений методами корпусной лингвистики затруднительно, однако нами был подготовлен список, заведомо неполный, лексем башкирского языка, закреплённых непосредственно в суфийском дискурсе или исторически связанных с ним.
Эта историческая взаимосвязь обусловлена многовековым бытованием на территории Башкортостана и в среде башкирских интеллектуалов произведений суфийской литературы на старотюркском языке в его различных вариантах, создававшихся как в регионах Ближнего Востока и Средней Азии, так и непосредственно на месте и пользовавшихся популярностью. Предметом настоящего исследования является сопоставление активности суфийской терминологической лексики в поэзии ХХ века на современном башкирском и в поэзии XIX века на старотюркском языке. Эмпирический материал в первом случае представлен Башкирским поэтическим корпусом4, а во втором – корпусом произведений наиболее плодовитого суфийского поэта Башкортостана М.-А. Чукури (1826-1889).
К суфийским терминам-лексемам, бытующим в современном башкирском языке, нами отнесены: 1) наименования суфиев – людей, осуществляющих суфийскую практику: шәйех ‘шейх’, мөршид ‘муршид’, пир ‘старец’ (наименования духовных наставников), мөрит ‘мюрид’, салик ‘идущий’, дәрүиш ‘дервиш’, суфый ‘суфий’; 2) категориальный аппарат философии суфизма: тәриҡәт ‘суфийский орден, тарикат’, хәҡиҡәт ‘истина’, мәғрифәт ‘постижение, познание Бога’, ғирфан ‘мистическое познание’, тәсаууыф ‘суфизм’, нәфс ‘душа, «эго»’, 3) названия практик и ритуалов: бәйғәт ‘присяга’, вирд ‘задание шейха мюридам’, хәтем ‘церемония коллективного поминания Бога’, зекер ‘поминание Бога, зикр’, тәлҡин ‘наставление’, рийәзәт ‘самоограничение’, сөхбәт ‘беседа’, хәлүәт ‘уединение, затворничество’, 4) названия состояний мистика: ғишыҡ ‘любовь’, мөхәббәт ‘любовь’ и др.5
Из названных двадцати трёх лексем четыре утратили религиозные коннотации и стилистические ограничения: современная семантика слов ғишыҡ и мөхәббәт – любовь вообще, хәҡиҡәт – правда, истина, мәғрифәт – просвещение. Слова шәйех , суфый , дәрүиш обозначают соответствующие религиозно-этнографические реалии. Лексема хәлүәт в словарях отсутствует. Арабизм нәфс дал в современном башкирском языке две лексемы – нәфсе ‘ страсть ’, не имеющую стилистических ограничений, и нәфес ‘ душа ’ с пометой «устаревшее». Так же помечены остальные лексемы6.
В корпусе произведений М.-А. Чукури общим объёмом порядка десяти тысяч словоупотреблений все названные лексемы встречаются с разной частотой. Сравнение их активности может помочь проследить и датировать те сдвиги в башкирском языке и культуре, которые способствовали переосмыслению суфийских терминов и их вытеснению в область устаревшей лексики.
|
Лексема |
Количество вхождений у М.-А. Чукури |
Количество вхождений в Башкирском поэтическом корпусе |
Количество вхождений до 30-х годов |
Количество вхождений в 30-40-е годы |
Количество вхождений в 50-60-е годы |
Количество вхождений с 70-х годов |
|
бәйғәт |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
вирд |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ғирфан |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
ғишыҡ |
2 |
97 |
19 |
2 |
16 |
60 |
|
зекер |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
мөрит |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
мөршид |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
мөхәббәт |
2 |
1752 |
50 |
453 |
547 |
702 |
|
мәғрифәт |
1 |
9 |
4 |
0 |
0 |
5 |
|
нәфес |
10 |
73 |
11 |
1 |
2 |
59 |
|
пир |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
рийәзәт |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
салик |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
сөхбәт |
8 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
суфый |
8 |
7 |
3 |
0 |
2 |
2 |
|
тәлҡин |
8 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
тәриҡәт |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
тәсаууыф |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
хәҡиҡәт |
2 |
208 |
28 |
5 |
55 |
120 |
|
хәлүәт |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
хәтем |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
шәйех |
22 |
12 |
0 |
0 |
1 |
11 |
Приведённая таблица демонстрирует, что суфийская терминология, не отличавшаяся активностью в текстах М.-А. Чукури, где лишь три лексемы употреблены более десяти раз, в основном, вышла из употребления ещё в первой половине ХХ века. Прежде всего, это коснулось терминов, обозначающих специфические реалии, связанные в суфийской практикой, и мало поддающихся метафоризации и возникновению вторых значений. Единичные употребления, обнаруженные в текстах, написанных до 30-х годов, в большинстве случаев зафиксированы в произведениях М. Гафури (18841934) – автора, чьё творчество сформировалось ещё в первые годы ХХ века под непосредственным влиянием и в рамках восточной поэтической традиции. Его раннее творчество отличается от большинства текстов, представленных в корпусе, и по другим аспектам языкового оформления.
Восемь лексем с ненулевой активностью после 30-х годов демонстрируют снижение количества вхождений в 30-40-е годы, связанное, по-видимому, с тенденцией к вытеснению арабизмов и фарсизмов из башкирского литературного языка русскими заимствованиями7, а также с тематическими особенностями поэзии того времени, внимание которой было сосредоточено не столько на личном самосовершенствовании, сколько на социалистической перестройке мира и защите Родины от захватчиков8. Учащение их использования в стихах, начиная с 60-70-х годов обусловлено переосмыслением одних лексем в качестве историко-этнографических реалий ( мөрит , суфый , шәйех ) и с утратой другими религиозных коннотаций ( ғишыҡ , мөхәббәт , мәғрифәт , нәфсе , хәҡиҡәт ).
Сопоставление частотности суфийских терминов в оцифрованных текстах XIX века и в Башкирском поэтическом корпусе наглядно демонстрирует, что их вытеснение из языка художественной литературы происходило синхронно с развитием современного башкирского литературного языка и башкирской советской литературы, а окончательная смена традиций произошла к сороковым годам ХХ столетия, то есть к моменту перехода башкирского алфавита на кириллицу. Возвращение некоторых суфийских терминов в широкое употребление было связано с их переосмыслением и утратой религиозных коннотаций. Переосмысленные суфийские термины репрезентируют ряд ключевых нравственно-философских концептов (любовь, истина, страсть), что позволяет предположить, что суфизм оказал глубокое, хотя и не широкое, влияние на языковую и философскую картину мира башкирского народа.
Список литературы Суфийские термины в языке башкирской поэзии ХХ века: опыт корпусного исследования
- Башкирский поэтический корпус [Электронный ресурс] [2013-2014]. Дата обновления: 27.11.2013. - URL: http://web-corpora.net/bashcorpus/search/ (дата обращения: 15.10.2016).
- Грамматика современного башкирского литературного языка. / Отв. ред. А.А. Юлдашев. - М.: «Наука», 1981. - 496 с.
- Йылмаз Х.К. Тасаввуф и тарикаты / перевод с турецкого А. Урманов. - М.: Сад, 2007. - 300 с.
- Максимович Е. Религиозная лексика на страницах российских СМИ и проблемы культуры речи [Электронный ресурс] // Białostockie Archiwum Językowe. 2012. № 12. - URL: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/1073/1/BAJ_12_Maksimowicz.pdf (дата обращения: 15.10.2016).
- Мустафина Р.Д. Башкирская литература тридцатых годов ХХ века (основные тенденции развития и проблема героя). Учебное пособие. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. - 130 с.
- Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция). - М.: Языки славянских культур, 2009. - 552 с.
- Пригарина Н.И. Мир поэта - мир поэзии. Статьи и эссе. - М.: ИВ РАН, 2012. - 352 с.
- Словарь башкирского языка: в двух томах. Том 1. А-М. - М.: Русский язык, 1993. - 861 с.
- Словарь башкирского языка: в двух томах. Том 2. Н-Я. - М.: Русский язык, 1993. - 814 с.