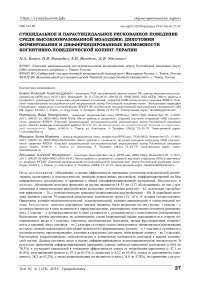Суицидальное и парасуицидальное рискованное поведение среди высокообразованной молодежи: дихотомия формирования и дифференцированные возможности когнитивно-поведенческой копинг-терапии
Автор: Бохан Н.А., Воеводин И.В., Мандель А.И., Аболонин А.Ф.
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 1 (34) т.10, 2019 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования: обоснование и оценка эффективности программы когнитивно-поведенческой копинг-терапии аддиктивных и непсихотических тревожно-депрессивных расстройств, дифференцированной на базе направленности аутоагрессии, в сравнении с общей (недифференцированной) программой. Материалы и методы: обоснование методики проведено на группе пациентов 18-35 лет (127 обследованных, из них с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления алкоголя - 45, вследствие употребления наркотиков - 34, с непсихотическим тревожно-депрессивными расстройствами - 48). В апробации методики приняли участие 79 пациентов аналогичных клинических групп (34, 10 и 35 человек соответственно). Применены клинико-психопатологический, психометрический, клинико-динамический и статистический методы. Результаты: методом кластерного анализа пациенты были разделены на две группы: 1 кластер - с аутоагрессивностью в виде склонности к парасуицидальному рискованному поведению (стеничное реагирование), 2 кластер - с аутоагрессивностью в виде склонности к суицидальности (гипостеничное реагирование)...
Аутоагрессивность, парасуицидальное рискованное поведение, суицидальные мысли, аддиктивные расстройства, тревожно-депрессивные расстройства, когнитивно-поведенческая терапия, копинг
Короткий адрес: https://sciup.org/140242190
IDR: 140242190 | УДК: 616.89 | DOI: 10.32878/suiciderus.19-10-01(34)-27-35
Текст научной статьи Суицидальное и парасуицидальное рискованное поведение среди высокообразованной молодежи: дихотомия формирования и дифференцированные возможности когнитивно-поведенческой копинг-терапии
Вопросы изучения феномена рискованности, как проявления аутоагрессии (аутодеструкции, парасуицидальности), чаще рассматриваются в психолого-педагогической научной литературе и в меньшей степени находят отражение в литературе медицинской [1]. Указывается, что рискованность, как черта характера, связана с активностью, инициативностью, лёгкостью установления контактов - и, соответственно, со вступлением в сомнительные мероприятия [2], в том числе потребление психоактивных веществ [3]. Среди психологических особенностей лиц, склонных к риску, описываются как неадаптивные характеристики (например, рискованное поведение рассматривается как ответная реакция на неконтролируемый стресс) [4], так и достаточно адаптивные – независимость, практичность, высокая самооценка [5]. В целом, изучение и превенция рискованного поведения, как одного из специфических проявлений аутодеструкции, является актуальной задачей [6].
Другой распространённой и более изученной в медицинском аспекте формой молодёжной аутодеструктивности выступает суицидальное поведение. При этом Д.Ф. Хритинин с соавт. [7] рассматривают молодёжный студенческий контингент, как группу повышенного риска по суицидальному поведению. К подобным выводам приходят и другие авторы, указывая, что серьёзной проблемой студенческой дезадаптации является её суицидальная направленность [8, 9]. По данным Н.А. Бохана с соавт. [10], проблема актуальна в психиатрической и наркологической практике, при этом пациенты далеко не всегда самостоятельно сообщают о наличии суицидальных мыслей. Для повышения выявляемости суицидальных мыслей у пациентов с зависимостями рекомендуется учитывать комплекс факторов, сопряжённых с суицидальностью - прогредиентность расстройства, тяжесть аффективных проявлений, мотивы потребления и др. [11, 12]. Указывается на необходимость использования специальных клинических опросников для оценки уровня суицидального риска [13].
Депрессивность и суицидальность рассматривает в качестве одного из факторов наркотизации и указывает на взаимосвязь суицидального и аддиктивного поведения, как важный патогенетический аспект [14]. Наличие суицидальных мыслей у пациентов с зависимостями связано со специфическими психологическими особенностями [15, 16, 17], определяющими своеобразную клинику основного заболевания, в том числе проявляющуюся в виде несуицидальных аутодеструктивных актов [18].
Таким образом, аутоагрессивное поведение, как проявление поведения деструктивного, тесно связано с личностными особенностями и может иметь важное значение в этиопатогенезе зависимостей и непсихотических тревожнодепрессивных расстройств [19]. Следует отметить, что устоявшиеся представления о деструктивном и аутодеструктивном поведении молодежи как следствии семейного и социального неблагополучия, нуждаются в пересмотре. В данное поведение втягивается всё больше детей из благополучных семей, с академическими успехами, достаточно социально адаптированных [20]. Для работы с данным контингентом необходимо разрабатывать принципиально новые модели вмешательств - во взаимосвязи как с аддиктивными [21, 22], так и с тревожно-депрессивными расстройствами [23].
По результатам изучения взаимосвязи иррациональных когнитивных установок (ИКУ) и копинг-поведения молодежи в Научно - исследовательского института психического здоровья Томского НИМЦ РАН была обоснована и разработана программа когнитивноповеденческой копинг-терапии (КПК-терапии) аддиктивных и непсихотических тревожнодепрессивных расстройств [24]. Апробация программы на трёх группах пациентов в возрасте от 18 до 35 лет (алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, тревожнодепрессивные расстройства) показала следующие результаты. Общая комплаентность (явка на контрольную точку) составила 60,6%. Из выявленной на момент первичного обследования симптоматики в результате КПК-терапии удалось добиться (как «отсутствие подтвержденного положительного результата» трак- товались и случаи неявки на контрольную точку):
-
- стойкой ремиссии в отношении злоупотребления алкоголем (при наличии зависимости и без зависимости, но с соответствием критериям употребления с вредными последствиями) – 50,9% случаев;
-
- стойкой ремиссии в отношении употребления наркотиков (синтетических каннабиноидов) – 47,1%;
-
- редуцирования тревожной симптоматики (нормализация показателей по шкалам HADS, Спилбергера-Ханина) – 47,4%;
-
- редуцирования депрессивной симптоматики (нормализация показателей по шкалам HADS, шкала депрессии Бека) – 42,2%;
-
- повышения уровня социально - психологической адаптации (по шкале SASS) – 14,7%;
-
- отказ от рискованного поведения – 38,5%;
-
- прекращение противоправного поведения – 50,0%;
-
- повышение рациональности когнитивного стиля (по опроснику Personal Beliefs Test с приложением НИИ психического здоровья) – 24,0%;
-
- повышение адаптивности копинг-стиля (по опроснику Амирхана) – 25,3%.
На следующем этапе работы была поставлена задача повышения эффективности психотерапевтического компонента вмешательств, за счет его дифференцирования, придания адресности. В качестве одного из оснований для дифференцирования может служить такая характеристика, как аутоагрессивность, проявляющаяся в нарушениях социального функционирования и в выявленных у пациентов психопатологических симптомах. Проявления аутоагрессивности достаточно многообразны, при этом противоположными проявлениями аутоагрессивности и, соответственно, основанием для дифференцированного подхода могут выступать склонность к рискованному поведению (рискованность) и суицидальность (прежде всего, в виде наличия у пациентов суицидальных мыслей) [25].
Цель исследования: обоснование и оценка эффективности программы когнитивноповеденческой копинг-терапии аддиктивных и непсихотических тревожно-депрессивных расстройств, дифференцированной на базе направленности аутоагрессии, в сравнении с общей программой.
Материалы и методы.
Обоснование методики проведено на клинической группе из 127 пациентов в возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст на момент обследования 24 (20; 30) года; из них мужского пола – 60 (47,2%), женского пола – 67 (52,8%). Пациенты с алкогольной зависимостью и употреблением алкоголя с вредными последствиями (F10.2 и F10.1) – 45 (35,4%) наблюдений, пациенты с наркотической зависимостью и употреблением с вредными последствиями, синтетические каннабиноиды (F12.2 и F12.1) – 34 (26,8%), пациенты с непсихотическими тревожно-депрессивными расстройствами (F4х, исключая F44) – 48 (37,8%).
В апробации разработанной дифференцированной программы приняли участие 79 пациентов в возрасте от 19 до 35 лет, средний возраст на момент обследования 26 (21; 32) лет; из них мужского пола – 37 (46,8%), женского пола – 42 (53,2%); с алкогольной зависимостью – 34 (43,0%); с наркотической зависимостью – 10 (12,7%), с тревожно-депрессивными расстройствами – 35 (44,3%).
В контрольной точке были оценены 10 показателей (комплаенс, употребление алкоголя, употребление наркотиков, тревога, депрессия, социально-психологическая адаптация, рискованное поведение, противоправное поведение, когнитивный стиль, копинг-стиль).
В исследовании использованы методы:
-
– клинико - психопатологический (в соответствие с Картой стандартизированного описания пациента НИИ психического здоровья, адаптированной к задачам исследования);
-
– психометрический (оценка тревожной и депрессивной симптоматики – шкалы HADS, Спилбергера-Ханина, депрессии Бека; оценка когнитивного стиля – опросник Personal Beliefs Test с приложением НИИ психического здоровья; оценка копинг-стиля – методики E.Heim в интерпретации НИИ психического здоровья [24] и J.Amirkhan);
-
– клинико-динамический (оценка симптоматики в динамике);
-
– статистический (кластерный анализ по k-среднему, кластеризация по вариантам и по случаям, сравнительный анализ – критерий χ2, тест Манна-Уитни).
Результаты и обсуждение.
В каждой группе был проведён кластерный анализ оцененных в баллах нарушений социального функционирования (рискованное пове- дение, агрессивность, коммуникативные нарушения, тягостное одиночество), нехимических (гаджет) аддикций, химических аддикций (употребление табака, алкоголя и наркотиков), психопатологических симптомов (гипотимия, астения, диссомния, дисфорические и обсессивные проявления, суицидальные мысли), со-мато-вегетативных проявлений.
Результаты проведённого кластерного анализа по вариантам представлены в таблицах 13. Как видно из полученных данных, во всех трёх случаях (при алкогольной, наркотической зависимости и тревожно-депрессивных расстройствах) рискованное поведение и суицидальные мысли относятся к разным кластерам, что, по нашему мнению, свидетельствует о возможности использования различной направленности аутоагрессии (сопряжённой со стеничным реагированием, в виде рискованности, либо с гипостеничным реагированием, в виде суицидальности) для дифференцирования психотерапевтического компонента вмешательств.
Таблица 1 Варианты формирования алкогольной зависимости с позиций, обнаруженной патопсихологической и психопатологической симптоматики
|
Кластеризация по k-среднему: |
CLUSTER |
DISTANCE |
|
Вегетативные нарушения |
1 |
0,40 |
|
Рискованное поведение |
1 |
0,38 |
|
Виртуальная аддикция |
1 |
0,39 |
|
Агрессивность |
1 |
0,40 |
|
Употребление наркотиков |
1 |
0,44 |
|
Обсессивная симптоматика |
2 |
0,31 |
|
Курение табака |
2 |
0,41 |
|
Гипотимия |
2 |
0,34 |
|
Астения |
2 |
0,35 |
|
Соматические нарушения |
2 |
0,40 |
|
Тягостное одиночество |
2 |
0,41 |
|
Диссомния |
2 |
0,37 |
|
Дисфорические проявления |
2 |
0,34 |
|
Коммуникативные нарушения |
2 |
0,42 |
|
Суицидальные мысли |
2 |
0,45 |
После анализа по вариантам в каждой группе был проведён кластерный анализ по случаям с отнесением каждого пациента к 1 или 2 кластеру. Данная процедура позволила провести сравнительный анализ микросоци-альных характеристик, когнитивного и копинг стиля между кластерами в каждой группе, по результатам которого было обосновано дифференцирование психотерапии.
Таблица 2
Варианты формирования наркотической зависимости с позиций обнаруженной патопсихологической и психопатологической симптоматики
|
Кластеризация по k-среднему: |
CLUSTER |
DISTANCE |
|
Виртуальная аддикция |
1 |
0,39 |
|
Ррискованное поведение |
1 |
0,40 |
|
Злоупотребление алкоголем |
1 |
0,35 |
|
Астения |
2 |
0,29 |
|
Соматические нарушения |
2 |
0,37 |
|
Вегетативные нарушения |
2 |
0,38 |
|
Диссомния |
2 |
0,40 |
|
Гипотимия |
2 |
0,37 |
|
Обсессивная симптоматика |
2 |
0,40 |
|
Агрессивность |
2 |
0,37 |
|
Суицидальные мысли |
2 |
0,51 |
|
Коммуникативные нарушения |
2 |
0,34 |
|
Тягостное одиночество |
2 |
0,41 |
|
Курение табака |
2 |
0,39 |
|
Дисфорические проявления |
2 |
0,26 |
При алкогольной зависимости (табл. 1) стеничный кластер (рискованность) сопряжён с агрессивностью и вегетативными нарушениями. Проявления психопатизации обнаруживаются в направленности сферы интересов – увеселительные заведения (в 14,3% случаев, χ2=4,03; df=1; p=0,0447); деньги (21,4%, χ2=6,24; df=1; p=0,0125); времяпрепровождение с потреблением психоактивных веществ (14,3%, χ2=4,03; df=1; p=0,0447), и преобладании алкогольной мотивировки гиперактивации (75,0% случаев). Для специфики психотерапевтического компонента вмешательств имеют ведущее значение ИКУ нарушенного баланса рискованности (неоправданность риска в 51,9% случаев при 12,5% у представителей гипостеничного кластера, χ2=10,12; df=2; p=0,0063) и неадаптивности модуля копинга
М4 (эмоционального реагирования) – 62,5% при 25,0% в гипостеничном кластере, χ2=7,49; df=2; p=0,0236.
Гипостеничный кластер (повышенного суицидального риска) отличается более частым использованием гедонистической мотивировки алкоголизаций (неумением получать неаддик-тивное удовольствие, 94,1% случаев), высокой распространённостью ИКУ оценочного дихотомического мышления (52,9% при 25,0% в стеничном кластере, χ2=8,42; df=2; p=0,0149), неадаптивностью модуля М5 (прогноза) – с преобладанием пессимистического вектора в 56,3% случаев при 16,7% в стеничном кластере, χ2=7,49; df=2; p=0,0236.
Таблица 3 Варианты формирования тревожно-депрессивных расстройств с позиций обнаруженной патопсихологической и психопатологической симптоматики
|
Кластеризация по k-среднему: |
CLUSTER |
DISTANCE |
|
Виртуальная аддикция |
1 |
0,48 |
|
Рискованное поведение |
1 |
0,29 |
|
Злоупотребление алкоголем |
1 |
0,27 |
|
Курение табака |
1 |
0,32 |
|
Употребление наркотиков |
1 |
0,27 |
|
Вегетативные нарушения |
2 |
0,38 |
|
Диссомния |
2 |
0,39 |
|
Дисфорические проявления |
2 |
0,28 |
|
Соматические нарушения |
2 |
0,39 |
|
Агрессивность |
2 |
0,37 |
|
Суицидальные мысли |
2 |
0,37 |
|
Коммуникативные нарушения |
2 |
0,45 |
|
Тягостное одиночество |
2 |
0,44 |
|
Астения |
2 |
0,34 |
|
Гипотимия |
2 |
0,34 |
|
Обсессивная симптоматика |
2 |
0,35 |
При наркотической зависимости (табл. 2) стеничный кластер сопряжён с виртуальной и алкогольной аддикцией. Представители кластера воспитывались сравнительно чаще в условиях потворствующей гиперопеки (42,1%), и чаще характеризуются высоким уровнем социально-психологической адапта- ции (42,1% случаев при 13,3% в гипостеничном кластере, χ2=7,98; df=2; p=0,0185). Когнитивная иррациональность ожидаемо проявляется в ИКУ нарушения баланса рискованности (в сторону неоправданности риска – 76,0% при 33,3% во втором кластере, χ2=9,55; df=2; p=0,0085), копинг-стиль сравнительно адаптивен (с высокой выраженностью разрешающего копинга в 50,0% случаев vs. 8,3%, χ2=8,96; df=2; p=0,0113), что может быть использовано как ресурс копинг-профилактики.
Гипостеничный кластер (суицидальность) связан с вегетативными нарушениями и агрессивностью – в отличие от алкогольной зависимости. Воспитание данных пациентов сравнительно чаще происходило в условиях гипоопеки (13,3%) и бессистемных (40,0%, χ2=8,89; df=4; p=0,0422). В развитии психических и поведенческих расстройств в данном случае установлена значимая роль хронических психотравмирующих ситуаций (наличие, при различной степени субъективной значимости, в 86,7% случаев vs. 47,4% в первом кластере, χ2=7,34; df=2; p=0,0255). Кластер характеризуется низкой адаптацией. В клинической картине межкластерные различия проявляются высокими уровнями распространённости тревоги (100% vs. 31,6%, χ2=16,62; df=1; p=0,00005) и депрессии (60,0% vs. 21,1%, χ2=5,38; df=1; p=0,0203), а также их выраженности, за счёт личностной тревожности, по методике Спилбергера-Ханина (52 (48; 63) балла vs. 39 (34; 44) баллов, Z=-3,94, p=0,0001), и когнитивно-аффективного компонента C-A шкалы депрессии Бека (15 (9; 19) баллов vs. 5 (3; 8) баллов, Z=-3,74, p=0,0002), соответственно. Особенностями вмешательства являются акцент на ИКУ низкой фрустрационной толерантности (выражена у 80,0% представителей кластера vs. 10,5%, χ2=16,71; df=2; p=0,0002) и внешнего локуса контроля (58,3% vs. 15,4%, χ2=7,25; df=2; p=0,0267), переориентация с избегающего (высокая выраженность в 66,7% случаев vs. 14,3%, χ2=8,68; df=2; p=0,0130) на разрешающий копинг, углублённая работа с модулем М5 (прогноз) – пессимистический вектор преобладает в 72,7% случаев vs. 12,5%, χ2=11,19; df=2; p=0,0037.
В группе пациентов с тревожнодепрессивными расстройствами (табл. 3) кластеры пациентов имеют достаточно типичные стеничные и гипостеничные характеристики. Стеничный кластер (на основе рискованно- сти) сопряжён со всеми видами химических и нехимических аддикций (табакокурение, алкоголизация, наркотизация, виртуальная аддик-ция). Предсказуемо более выражена ИКУ нарушенного баланса рискованности (в сторону неоправданности риска в 42,9% случаев vs. 8,0%, χ2=8,43; df=2; p=0,0148). Сравнительно неадаптивен модуль М4 (эмоциональное реагирование) – 66,7% vs. 32,0%, χ2=7,01; df=2; p=0,0301.
Пациенты гипостеничного кластера (суицидальный риск) чаще имеют в анамнезе хронические психотравмирующие ситуации (73,1%). Характерной микросоциальной особенностью в данном случае выступает отсутствие семейной или регулярной сексуальной жизни, со сравнительным преобладанием отсутствия сексуального партнера (57,1% vs. 27,8%) и случайных связей (9,5% vs. 0%), χ2=8,04; df=4; p=0,0451. Когнитивная иррациональность связана в бòльшей степени с ИКУ низкой фрустрационной толерантности (высокая выраженность в 53,8% случаев vs. 14,3%, χ2=8,87; df=2; p=0,0119). Копинг-стиль – избегающий (52,0% vs. 19,0%, χ2=7,11; df=2; p=0,0286), с неадаптивностью модуля М9 (поддержка), в 36,0% случаев, при χ2=9,40; df=2; p=0,0091. В клинической картине сравнительно сильнее выражены тревога (за счёт личностной тревожности – 57 (48; 62) баллов vs. 48 (47; 51) баллов, Z=-2,76; p=0,0057), и депрессия (за счет когнитивно-аффективного компонента C-A шкалы депрессии Бека – 10 (7,5; 12) баллов vs. 4,5 (2; 7) баллов, Z=-3,77; p=0,0002).
Таким образом, с позиций выявленной симптоматики и направленности аутоагрессии, при дифференцировании психотерапевтического компонента вмешательств достаточно важным является учёт микросоциальных факторов: сферы преобладающих интересов, включающей посещение ночных клубов и потребление ПАВ (актуально для алкогольной зависимости по варианту рискованности); условий воспитания в виде потворствующей гиперопеки (формирование наркотической зависимости по варианту рискованности), гипоопеки и бессистемных (наркотическая зависимость, вариант суицидальности); наличия хронических психотравмирующих ситуаций и отсутствия постоянного сексуального партнера (тревожнодепрессивные расстройства, вариант суицидальности). Также, важно учитывать разный уровень социально-психологической адаптации
– сравнительно высокий при варианте рискованности и сниженный – при варианте суицидальности.
Стеничный вариант, на основе рискованности, стабильно сопряжен с виртуальной и химическими аддикциями, за исключением табакокурения, которое не сопряжено со стенич-ным вариантом при зависимостях, но входит в данный кластер при тревожно-депрессивных расстройствах. При алкогольной зависимости в кластер входят также вегетативные нарушения и агрессивность. Когнитивные вмешательства подразумевают в первую очередь работу с ИКУ нарушенного баланса рискованности, коррекция неадаптивного копинга – работу с модулем М4 (эмоциональное реагирование).
Гипостеничный вариант, на основе суицидальности, включает в себя основной комплекс психопатологических симптомов, нарушений социального функционирования и соматических проявлений, включая вегетативные нарушения и агрессивность при наркотической зависимости и тревожно-депрессивных расстройствах. При зависимостях с данной симптоматикой сопряжено табакокурение. Когнитивноповеденческая копинг-терапияа направлена, прежде всего, на работу с ИКУ низкой фруст-рационной толерантности, оценочного дихотомического мышления, внешнего локуса контроля и модулями копинга М5 (прогноз), обычно в сочетании с избегающим копингом, и М9 (поддержка).
Сформулированное ранее [25] положение о разных вариантах формирования аддиктивных и непсихотических тревожно-депрессивных расстройств (стеничном и гипостеничном), по нашему мнению, нашло подтверждение в данном исследовании. Наряду с выделением общих базовых психологических механизмов формирования аддиктивных и непсихотических тревожно - депрессивных расстройств, выделены характеристики, предположительно разделяющие данные процессы: табакокурение, вегетативные проявления и агрессивность как симптомы.
Участниками апробации дифференцированной программы на базе направленности аутоагрессии стали 79 пациентов; из них с алкогольной зависимостью – 34 (43,0%); с наркотической зависимостью – 10 (12,7%), с тревожно-депрессивными расстройствами – 35 (44,3%). Поскольку пациенты включались в программу по мере поступления, кластериза- ции по случаям не проводилось, и отнесение каждого пациента к определенному варианту программы производилось на основании выявленных или не выявленных склонности к риску и наличия суицидальных мыслей. Дифференцированные варианты программы применены к 41,8% участников (21,5% – стеничный вариант, 20,3% – гипостеничный). У 55,7% не выявлены проявлений аутоагрессии, в 2,5% случаев ауто-агресивность носила смешанный характер.
От результатов общей недифференцированной программы статистически значимо отличались показатели:
-
- комплаентность (78,5%, χ2=7,07; df=1; p=0,008),
-
- употребление наркотиков (81,0%, χ2=6,97; df=1; p=0,009),
-
- тревога (65,1%, χ2=4,79; df=1; p=0,029),
-
- депрессия (65,4%, χ2=4,25; df=1; p=0,040),
-
- рискованное поведение (63,2%, χ2=4,59; df=1; p=0,033),
-
- когнитивный стиль (47,8%, χ2=10,32; df=1; p=0,002).
Доказанная эффективность программы в отношении редуцирования суицидальных мыслей (отсутствие симптома в течение контрольного периода) – 83,3%; при этом 16,7% – неявка на контрольную точку. Остальные результаты (употребление алкоголя, социально - психологическая адаптация, противоправное поведение, копинг-стиль) были статистически сопоставимы с результатами общей программы.
Заключение. Проведённый с использованием методов многомерной статистики ком-
Список литературы Суицидальное и парасуицидальное рискованное поведение среди высокообразованной молодежи: дихотомия формирования и дифференцированные возможности когнитивно-поведенческой копинг-терапии
- Руженков В.А., Руженкова В.В. Некоторые аспекты терминологии и классификации аутоагрессивного поведения. Суицидология. 2014; 5 (1): 41-51.
- Жданова Н.Е. Риск как предпосылка к отклоняющемуся поведению подростков. Академический журнал Западной Сибири. 2012; 2: 7.
- Корчагина Г.А., Фадеева Е.В., Колпаков Я.В. Изучение распространенности употребления психоактивных веществ и склонности к рискованному поведению у студентов учреждений среднего профессионального образования. Наркология. 2014; 13 (11): 33-36.
- Шаболтас А.В., Жуков Д.А. Рискованное поведение как реакция на неконтролируемый стресс. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2011; 1: 227-234.
- Бунас А.А. Личностно-психологические предикторы склонности к рискованному поведению. Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2013; 2: 5-8.
- Шаболтас А.В. Риск и рискованное поведение как предмет психологических исследований. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2014; 3: 5-16.