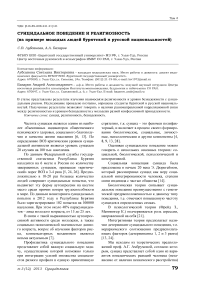Суицидальное поведение и религиозность (на примере молодых людей бурятской и русской национальностей)
Автор: Лубсанова Светлана Викторовна, Базаров Андрей Александрович
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 3 (12) т.4, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты изучения взаимосвязи религиозности и уровня безнадежности с суиц идальным риском. Исследование проведено поэтапно, опрошены студенты бурятской и русской национал ьностей. Полученные результаты позволяют говорить о наличии разнонаправленной корреляционной связи между религиозностью и уровнем безнадежности у молодежи разной конфессионной принадлежн ости.
Суицид, религиозность, безнадежность
Короткий адрес: https://sciup.org/140141400
IDR: 140141400 | УДК: [616.89–008.441.41]+21
Текст научной статьи Суицидальное поведение и религиозность (на примере молодых людей бурятской и русской национальностей)
Частота суицидов является одним из наиболее объективных индикаторов общественного психического здоровья, социального благополучия и качества жизни населения [6, 13]. По определению ВОЗ критическим уровнем суицидальной активности является уровень суицидов 20 случаев на 100 тыс. населения.
По данным Федеральной службы государственной статистики Республика Бурятия находится на 6 месте в России по количеству завершенных суицидов, превышая «критический» порог ВОЗ в 3-4 раза [5, 24, 26]. Предположительно в 10-20 раз большее количество людей совершает суицидальные попытки, что выдвигает эту форму аутоагрессии на шестое место среди причин потери трудоспособности в мире. По данным мониторинга суицидальных попыток в 2012 году в Республике Бурятия было зарегистрировано 102 попытки на 100000 населения. При этом около 40% парасуициден-тов – лица молодого возраста, от 15 до 25 лет.
В связи с такой выраженностью аутоагрессивной активности среди молодежи, а также социально-экономической значимостью данного возраста, вопрос об изучении факторов риска, компенсаторных механизмов является весьма актуальным [7].
Профилактика суицидального поведения представляет собой важную социальную задачу, осуществление которой возможно только при интеграции усилий множества специалистов разного профиля в единую превентивную стратегию, т.к. суицид – это феномен полифак-торный, и включает в процесс своего формирования биологические, социальные, личностные, психологические и другие компоненты [4, 8, 9, 13, 28].
Оценивая суицидальное поведение можно говорить о нескольких основных теориях: социальной, биологической, психологической и интегративной.
Социальная концепция суицида была предложена в начале 20 века Э. Дюркгеймом, который рассматривал суицид как меру социальной интегрированности человека, степени связи индивида с частью общества [14].
Биологическая теория связывает суицидальное поведение преимущественно с генетической предрасположенностью к данному типу поведения, т.е. отмечают повышенную частоту суицидов в определенных семьях.
В психологической теории (Фрейд З., Меннингер К.) подчеркивается роль агрессии, направленной на себя [21].
Интегративная теория предполагает наличие детерминант суицидального поведения, т.е. иерархического соотношения предрасполагающих факторов (детерминанты 1, 2 и 3 ранга) [13, 24].
Мы исходим из теоретических предположений проф. А.Г. Амбрумовой, согласно которым, суицид представляет собой один из вариантов поведенческих реакций человека (независимо от наличия психического расстройства)
в состоянии психологической дезадаптации, проявляющихся широкой гаммой переживаний, как психологически понятных, так и патологических [1, 2]. Следует отметить, что понятия социально - психологической адаптации и дезадаптации в применении к суициду как единичного явления, остаются незыблемыми. Эта концепция вобрала в себя социальные и личностные категории, факторы внутренней и внешней среды, их ролевое значение в формировании суицидального поведения. То есть суицид рассматривается как определенное сочетание факторов риска и пусковых факторов. К основным факторам риска принято относить социально - демографические, биографические, медицинские, индивидуально - психологические и др. К социально-демографическим факторам суицидального риска относят: пол, возраст, профессиональный статус, семейное положение и религию. При этом большинство авторов считают, что уровень суицидов выше среди атеистов, по сравнению с верующими, а среди основных конфессий максимальные уровни суицидов регистрируются у буддистов, минимальные у мусульман; христиане и индуисты занимают промежуточное положение [15, 25, 27]. Религиозность относится к социальнодемографическим факторам, а если говорить точнее, к социально-политическим, т.е. тем факторам, которые вполне определенны, регулируемы и наиболее подвижны при проведении законодательно обоснованных мероприятий.
Российская религиоведческая наука накопила достаточно много материала для обоснования такого сложного и актуального феномена как религиозность [10, 22, 29]. Тем не менее, споры вокруг ее теоретической и эмпирической интерпретации не закончены. Один из сложных вопросов в изучении религиозности – это определение ее критериев. Следует различать две концепции, к которым могут быть сведены различные варианты критериев религиозности : классическая и постклассическая .
Классическая концепция определения религиозности основана на исключительно стороннем, объективированном взгляде на религию. Исследователи, работающие в рамках данного подхода, выделяют два принципиальных момента для определения религиозности. Во-первых, практическое подтверждение религиозной позиции субъекта, выражающееся в регулярных культовых действиях (посещение храма, соблюдение постов и пр.). Во-вторых, приверженцы этой концепции говорят о ком- плексности критерия религиозности, выражающейся в строгом соблюдении канонической чистоты и полноты образа действий и образа мысли, предписываемого той или иной религиозной традицией. Религиозная самоидентификация в данной концепции не играет роли, так как она не предполагает, что данный человек разделяет соответствующие религиозные верования и следует религиозным практикам.
Постклассическая концепция акцентирует внимание на особенностях конкретной религии. Это достигается совмещением классического объективированного подхода и подхода интроспективного, предполагающего взгляд с позиций верующего данной религии. Основным критерием религиозности в данном случае является религиозная самоидентификация личности. То есть если человек причисляет себя к православным, то мы как исследователи должны считать его членом Православной Церкви. Более того, для определения себя человеку не обязательно быть «религиозно грамотным».
Нам представляется наиболее интересным изучение этнокультурального (религиозного) признака у активной в суицидальном плане возрастной группы (молодой возраст), так как по данным ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» МЗ РФ коренные национальности финно-угорской, монголоидной групп имеют большую предрасположенность к реализации суицидального поведения [27]. Вопрос влияния этнокультуральных факторов на суицидальное поведение населения республики Бурятия остается недостаточно изученным.
В связи с этим, целью проведенной работы является: определение характера взаимосвязи религиозности и степени выраженности тревожно-депрессивных состояний как основы развития суицидального поведения.
Материал и методы исслдования.
Исследование проведено среди лиц молодого возраста бурятской и русской национальности (средний возраст – 19,7±0,2 лет).
Согласно статистическим данным, население республики Бурятия с учетом этнического фактора состоит из русских (66,1%), бурят (29,5%) и прочих национальностей (4,4%). В отчетных формах мониторинга суицидальных попыток нет данных, отражающих национальную принадлежность суицидентов. Поэтому при проведении исследования была взята случайная выборка испытуемых.
Для достижения цели исследования на базе медицинского факультета Бурятского государственного университета и Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН был разработан комплексный опросник, состоящий из трёх блоков. Первый – социально - демографический, включает 10 вопросов о гендерной, возрастной, национальной, религиозной принадлежности, социальном происхождении и т.д.). Второй блок содержит вопросы, определяющие уровень религиозности (11 вопросов). Третий блок оценивает уровень религиозной осведомленности (6 вопросов).
На формирование первого и второго блока данного опросника повлияли методические разработки ряда современных исследований в области социальной психологии и социологии религии [10, 22, 29]. При разработке третьего блока были задействованы предварительные социо-источниковедческие исследования, в ходе которых было изучено содержание популярных буддийских текстов на тибетском и монгольском языках, распространенных среди бурят до первой четверти XX века, а также связанных с суицидальным поведением внутри буддизма [29]. Выделение именно буддийской составляющей в формировании третьего блока было продиктовано рядом авторитетных заявлений ведущих психиатров страны [26].
Учитывая условие обязательного комплексного исследования суицидального поведения, помимо опросника религиозности были дополнительно использованы шкала депрессии Бека и шкала тревожности Спилбергера.
Обработка данных производилась с использованием MS Excel 9.0
Результаты и обсуждение.
На первом этапе исследования было опрошено 63 студента 3 курса медицинского и восточного факультетов Бурятского государственного университета. Расчет средних значений позволил получить следующие результаты:
– уровень религиозности составил 25,5 баллов, что соответствует показателю «ниже среднего» (из 5 определенных уровней);
-
– уровень религиозной осведомленности – 13,2 балла, соответствует уровню «выше среднего»;
-
– уровень ситуационной тревожности (шкала Спилбергера) – 37,9 баллов (умеренный уровень);
-
– личностная тревога (шкала Спилбергера) – 41,5 баллов (умеренный уровень);
-
– уровень депрессии по шкале Бека – 9,2 балла – отсутствие депрессивной симптоматики.
Оценка патопсихологических данных была соотнесена и подтверждена клинической оценкой респондентов.
Таким образом, данный этап работы позволил распределить полученные баллы по религиозности (2 блок) по 5 уровням (низкий – 11-21 балл; ниже среднего – 22-27 баллов; средний – 28-35 баллов; выше среднего – 36-43 балла; высокий – 44-50 баллов). Кроме этого был определен уровень тревожно - депрессивной симптоматики в данной возрастной группе. Полученные результаты послужили поводом для последующих внесений изменений при проведении дальнейших этапов исследования.
Большая часть респондентов отмечала излишнюю длительность процедуры тестирования. В связи с чем в программу исследования нами были внесены, с учетом теоретической обоснованности [28], следующие изменения: шкала депрессии Бека и шкала тревоги Спил-бергера были заменены на шкалу безнадежности Бека, так как по мнению некоторых авторов безнадежность представляет собой депрессивное восприятие реальности и «собственного Я» и будущих перспектив в негативно окрашенных, негативных тонах, то есть. объединяет в себе характеристики и тревоги. Также, по данным некоторых исследователей, риск развития суицида коррелирует не с выраженностью собственно депрессивных проявлений, а с выраженностью безнадежности. Кроме этого сокращение времени тестирования может благоприятно отразиться на качестве и достоверности процедуры тестирования.
Опросник религиозности также был подвергнут исправлениям. Для дальнейшей работы учитывался только второй блок, определяющий религиозность и не содержащий вопросов о религиозной осведомленности.
Следующий этап охватил 104 респондента (молодые люди бурятской и русской национальности). Из них лиц титульной нации было 76 человек (58 девушек и 18 мужчин), а молодежи русской национальности – 28 человек (20 девушек и 8 мужчин). Обе группы были сопоставимы по возрасту. Всем испытуемым был предъявлен опросник религиозности и шкала безнадежности Бека. Полученные результаты были подвергнуты корреляционному анализу.
При оценке полученных данных было отмечено, что у молодежи бурятской националь- ности существует отрицательная корреляционная связь между показателем безнадежности и степенью выраженности религиозности. Коэффициент корреляции равен – 0,347, при Rкрит=0,308; р≤0,01.
У русской молодежи, наоборот, не было достоверной отрицательной корреляции между уровнем безнадежности и степенью выраженности религиозности. Коэффициент корреляции равен 0,232, при Rкрит =0,381; р≤0,05.
Если рассматривать девушек и молодых людей обеих групп, то отрицательная корреляционная связь обнаружена только у мужчин бурятской национальности. Коэффициент корреляции составляет –0,5103, при Rкрит = 0,606; р≤0,01.
Таким образом, полученные в исследовании результаты свидетельствуют в пользу обратной корреляционной зависимости между уровнем безнадежности и степенью религиозности среди молодежи бурятской национальности. Другими словами, следование бурятским религиозным традициям, обрядам, канонам и т.п. нельзя однозначно относить к факторам повышенной суицидальной готовности. Высокие показатели распространенности самоубийств в этой популяции, вероятно, следует искать среди других негативных психологических, психосоциальных и биологических факторах, что требует дополнительных исследований.