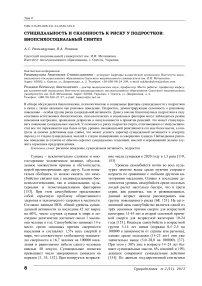Суицидальность и склонность к риску у подростков: биопсихосоциальный синтез
Автор: Рахимкулова Анастасия Станиславовна, Розанов Всеволод Анатолиевич
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 2 (11) т.4, 2013 года.
Бесплатный доступ
В обзоре обсуждаются биологические, психологические и социальные факторы суицидальности у подростков в связи с таким явлением как рисковое поведение. Подростки, демонстрирующие склонность к рисковому поведению – особая группа риска суицидальной активности. Даже у вполне благополучных подростков в силу сочетания естественных биологических, психологических и социальных факторов могут наблюдаться резкие изменения настроения, проявления депрессии и импульсивности в принятии решений, что может стимулировать появление суицидальных мыслей. У склонного к риску подростка (черта, отличающаяся от импульсивности) все это переживается еще более остро, уровень эмоциональной реактивности его еще более высок, а контроль за своими действиями еще слабее, что может усилить характер суицидальной активности и ускорить переход от стадии суицидальных мыслей к стадии планирования и совершения суицида. Наблюдаемое рисковое поведение (в отличие от обычно скрытых суицидальных тенденций, мыслей и переживаний) должно служить серьезным предупреждением.
Рисковое поведение, суицидальная активность, подростки
Короткий адрес: https://sciup.org/140141390
IDR: 140141390 | УДК: 616.89–008.441.44–0536:316.6
Текст обзорной статьи Суицидальность и склонность к риску у подростков: биопсихосоциальный синтез
Суицид – исключительно сложное и многостороннее человеческое явление, обусловленное множеством причин и обстоятельств, порой противоречащих друг другу. Если попытаться обобщить, то можно сказать, что самоубийство связано как с индивидуальными био-психологическими, так и социальными, культурными и экзистенциальными факторами [153]. При этом самоубийство представляет собой серьезную проблему общественного здоровья и психического здоровья в частности. Согласно данным ВОЗ, общий уровень суицидальной активности за последние 45 лет вырос на 60%, число случаев суицида в мире в последние десятилетия достигает около 1 миллиона человек в год. Самоубийство занимает 14-е место среди основных причин смертности населения и составляет 1,5% всех смертей в мире, что соответствует глобальному показателю смертности в 16,7 человек на 100000 населения и равнозначно гибели одного человека каждые 40 секунд. Суицидальные попытки превышают число завершенных суицидов на порядок [1, 34, 152]. Прогнозируется возраста- ние числа суицидов к 2020 году в 1,5 раза [119, 153]
Уровень самоубийств почти во всех культурах заметно выше среди мужчин старшего возраста по сравнению с любыми другими категориями населения. Однако в последние десятилетия уровень самоубийств среди молодых людей растет настолько быстро, что в трети стран, как развитых, так и развивающихся, данный возраст начали рассматривать как группу повышенного риска [68, 153]. На сегодняшний день самоубийство является одной из трёх основных причин смерти для возрастной категории 15-44 лет и второй основной причиной смерти для возрастной категории 10-24 года [153]. Индексы самоубийств в возрастной группе 5-14 лет низки (порядка 0,5–2,5 на 100000 в зависимости от страны или региона), однако среди молодежи (14-25 лет) они уже значительно выше (5,0–28,0 на 100000). [37]. При этом у 30% лиц в возрасте 14–24 лет бывают суицидальные мысли, 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия [154]. По данным государственной статистики количество детей и подростков, покончивших с собой в возрасте до 18 лет, в России составляет 12,7%, а на Украине – 10,8% от общего числа лиц данной возрастной категории, умерших от внешних причин [4]. Данные наших наблюдений свидетельствуют о росте суицидов среди подростков за последние 10 лет, при том, что для остального населения характерно некоторое снижение уровня суицидов [19].
При проведении опросов, направленных на выяснение состояния психического здоровья подростков в школах, примерно 30% мальчиков и 40% девочек отмечают суицидальные мысли, о суицидальных попытках за последние 6 месяцев сообщают 3,7% мальчиков и 7,6 % девочек [20].
Следует отметить, что самоубийства среди этого контингента наносят наиболее сильный психологический и моральный ущерб семьям и ближайшему окружению подростков, имеют большой общественный резонанс, активно обсуждаются СМИ, вызывая в обществе ощущение катастрофичности происходящего. Все это подчеркивает необходимость детального, объективного и беспристрастного изучения различных аспектов суицидального поведения детей, подростков и молодежи. Необходимо также уделить больше внимания особенностям и характерным чертам тех возрастных периодов, с которыми обычно связывают формирование отношения личности к суициду.
Цель данного обзора – рассмотреть весь комплекс механизмов и причин, способных оказать влияние на суицидальное и рисковое поведение подростков и молодежи, от био-психологических особенностей до экзистенциальных аспектов, характерных для подросткового или близкого к нему возраста.
Факторы риска суицида.
Концепция факторов риска, несмотря на свою ограниченность в плане предикции суицида конкретного индивидуума, представляет ценность для более ясного понимания причин и механизмов, способных привести к самоубийствам на популяционном уровне. Условно факторы риска можно разделить на 2 группы – провоцирующие и потенцирующие (табл. 1). Естественно предположить, что наличие более одного провоцирующего фактора, подкрепленного факторами потенцирующими, с большей вероятностью вызывает суицидальную активность.
Таблица 1
Факторы риска суицида
|
Провоцирующие |
1 |
Потенцирующий |
|
1. Биологические |
||
|
– нейробиологические – семейная история суицида – нарушения ранних этапов развития |
– физическая болезнь, особенно неизлечимая |
|
|
2. Психиатрические |
||
|
– психические расстройства – эмоциональные расстройства – психотические и личностные расстройства – злоупотребление психоактивными веществами |
– острые фазы психических нарушений |
|
|
3. Психологические |
||
|
– импульсивно-агрессивное поведение – высокая эмоциональная реактивность – состояние безнадежности, ангедонии |
– негативные эмоциональные состояния (скорбь, тоска, печаль) – рисковое поведение |
|
|
4. Социальные |
||
|
– суицидальное поведение в социальной группе – наличие факторов постоянного физического и психологического стресса |
– стрессовые события жизни – доступность средств для совершения суицида |
|
|
5. Демографические |
||
|
– пол (мужской) – возраст (подростковый, выше 45) |
– семейное положение (неженат/ незамужем) – уровень образования (низкий и ниже среднего) – профессиональная занятость (безработный) |
В нашу задачу не входит подробное обсуждение этих факторов, мы ограничимся самыми общими замечаниями, имеющими отношение к обсуждаемой теме. Анализ биологических (в частности генетических) факторов риска суицида в русле поведенческой генетики связан с изучением семейной истории суицида, суицида в семьях с усыновлением и в близнецовых парах [45, 116]. Эти исследования позволили оценить общий вклад генов в формирование суицидального поведения, составляющий примерно 45% [134]. Развитие молекулярной генетики и геномики открыло новые возможности, и в последние десятилетия исследования сконцентрировались на поиске конкретных генов, влияющих на данное поведение или тесно ассоциированных с ним [105, 107]. В настоящее время подтверждено наличие биологических коррелятов суицидального поведения на уровне генных полиморфизмов, связанных с рядом нейромедиаторных систем мозга и системой стресс-реагирования организма [137]. В тоже время, носительство некоторых генов лишь незначительно повышает риск суицида, поскольку реализация генотипа в значительной степени обусловлена взаимодействием генов и среды [106, 121, 155]. В этих процессах большую роль, по-видимому, играют эпигенетические механизмы [143]. Данный аспект проблемы подробно рассмотрен нами в предыдущих обзорных публикациях [16, 135].
Что касается нейробиологических систем, связанных с суицидальным поведением, то предметом пристального внимания в течение ряда лет являются серотонинергическая, дофаминергическая, ГАМК-ергическая медиаторные системы мозга, а также ряд других механизмов, например, состояние нейромодуляторов, цитокинов и факторов роста. Можно считать доказанной роль системы серотонина. У лиц, покончивших с собой или совершивших тяжелые суицидальные попытки, выявляется сниженный уровень метаболитов серотонина в цереброспинальной жидкости [42, 43, 121]; повышенный уровень рецепторов серотонина в тромбоцитах [39, 114, 121]; сниженное число пресинаптических транспортеров и большее количество постсинаптических рецепторов, в основном в префронтальной коре [35, 116, 121, 127]. В то же время, подобные изменения активности серотонинергической системы свойственны не только суицидальному, но и другим видам агрессивного поведения, прежде всего связанным с дефицитом контроля импульсив- ных действий [121, 145]. Это указывает на связь суицидальной активности с другими расстройствами поведения, и в первую очередь – с расстройствами эмоциональной сферы и рисковым поведением.
Серотониновая система, вероятно, может быть вовлечена в формирование суицидальности как напрямую, так и опосредованно, через формирование тех или иных психических расстройств [103, 116, 121]. С этих же позиций можно рассматривать роль хронических и смертельных соматических заболеваний. С одной стороны, они провоцируют состояние депрессии через биологические механизмы, а с другой – лишают индивида положительного образа будущего, тем самым усугубляя психологическое восприятие текущей ситуации и себя в ней как бессмысленное и безнадежное [1, 77, 121].
Биологические механизмы скорее представляют собой предпосылки суицидальности, в то время как наибольший риск представляют собой психиатрические факторы риска – те или иные психические расстройства [56, 115, 118, 120-122, 147, 149]. Утверждение о том, что значительная часть покончивших с собой не имели психических расстройств, связано с разными подходами к оценке этого показателя. Если используется психологическая аутопсия, то диагностируемое психиатрическое заболевание в момент совершения суицида выявляется у 90–95% лиц, покончивших с собой [121, 122]. Если же оцениваются формальные данные заболеваемости психическими расстройствами, то доля лиц, не имеющих диагноза, среди покончивших с собой, резко снижается. Результаты масштабного исследования ВОЗ [121], в котором принимало участие более 100 тыс. человек из 21 страны, показали, что многие психические расстройства могут сопровождаться суицидальными проявлениями [121]. При этом значение различных расстройств для суицидальности связано с социо-экономическим фактором. Так, наиболее серьезными предикторами суицидальных попыток в развитых странах выступают расстройства настроения, а в развивающихся – злоупотребление психоактивными веществами и посттравматическое стрессовое расстройство [121]. Депрессия выступает одним из самых существенных психиатрических рисков суицидального поведения [109], 15% индивидов, страдающих депрессией, хотя бы 1 раз в жизни совершали попытку суицида, 60% жертв суицида страдали депрессией [80]. Депрессия часто сочетается с личностными расстройствами и повышает выраженность злоупотребления психоактивными веществами [56, 130]. В лонгитюдном исследовании факторов риска суицидальных попыток [56] было обнаружено, что продолжительная глубокая клиническая депрессия ведет к развитию коморбидности с пограничным личностным расстройством, тревожным, паническим и посттравматическим расстройством, а также к аддикциям, что в результате значительно повышает риск суицидального поведения даже при отсутствии суицидальной истории [56, 121].
Если говорить о подростковом возрасте, то основными психиатрическими факторами риска, связанными с суицидальным поведением являются: выраженная депрессия (относительный риск OR=27.0), биполярное расстройство (OR=9.0), злоупотребление психоактивными веществами (OR=8.5), расстройства поведения (OR=6.0). По имеющимся данным 82% подростков - суицидентов страдали от того или иного аффективного расстройства, у 31% депрессия длилась меньше 3 месяцев, а злоупотребление психоактивными веществами в сочетании с расстройством аффекта увеличивало риск суицида больше, чем в 5 раз (с OR=3.3до 17.0) [61-64, 121]. Подростки, подверженные высокому риску суицида (серьезно планировали суицид, либо уже предпринимали суицидальные попытки), часто имели аффективные расстройства, семейную историю депрессии или биполярного расстройства, антисоциальное поведение, повышенную импульсивность [61, 121].
Таким образом, наличие расстройств эмоциональной сферы, личностных расстройств, дефицит контроля импульсивных реакций, а также злоупотребление психоактивными веществами являются самыми серьезными факторами риска суицида и суицидального поведения [111, 121, 122, 147], а наличие множественных расстройств (коморбидность) свидетельствует о еще более высоком риске [121, 122, 138, 147].
Значительный интерес представляют личностные психологические особенности суицидальных подростков. У лиц, совершающих суицидальные попытки, некоторые устойчивые личностные черты более выражены (нейротизм и интроверсия) или снижены (организованность) [136]. В то же время нет оснований счи- тать, что существует черта или некое специфическое сочетание черт личности, с большой степени вероятности предрасполагающее к суициду.
Психологические факторы риска в основном связываются с конкретными и порой кратковременными психологическими состояниями, провоцирующими суицидальное поведение. Среди таких состояний выделяется высокая эмоциональная реактивность (быстрота возникновения или изменения эмоции) [8, 22, 84, 85]. Эта психологическая особенность характеризуется склонностью к возникновению бурных эмоциональных вспышек, неадекватных причине, их вызвавшей, или чрезмерной эмоциональной чувствительностью (гиперестезией) ко всем внешним раздражителям [8]. Далее следует импульсивность – черта характера, выражающаяся в склонности индивида действовать без достаточной степени сознательного контроля, как под влиянием внешних обстоятельств, так и в силу внутренних эмоциональных переживаний [83, 84, 115, 157]. Большое значение имеет также с клонность к риску – устойчивая характеристика личности, связанная с рядом личностных черт, такими как импульсивность, поиск новизны, независимость, стремление к успеху, склонность к доминированию, при которой индивид с разной степенью осознанности подвергает себя опасности, исходя из своей субъективной оценки как данной ситуации, так и возможного дальнейшего хода событий в результате принятого им решения [25, 82, 92].
Данная характеристика представляет в контексте нашего обзора особый интерес. Ряд исследований свидетельствует о том, что суицидальность у подростков связана с различными видами рискового поведения: участием в запугивании и виктимизации сверстников [71], рисковым сексуальным поведением [97], делинквентностью [61], потреблением алкоголя [79, 93, 129], различными самоповреждениями несуицидального характера [70], пренебрежением физической активностью [66] и нарушениями пищевого поведения [32]. В свою очередь, многие виды рискового поведения коррелируют между собой, встречаясь у одних и тех же индивидуумов [150]. Все вышеизложенное послужило основанием для характеристики данного поведенческого паттерна как «синдрома рискового поведения подростков», тесно связанного с суицидальными проявлениями
-
[150] . Эти проявления имеют сложную био-психосоциальную природу, испытывают влияние в своем генезе как генов, так и среды [17] и коррелируют с суицидальными тенденциями [14].
Таким образом, наличие неоправданной склонности к риску является важной предпосылкой суицидального поведения. Если эта черта характера сочетается с негативными эмоциональными состояниями, особенно такими, как безнадежность [30, 50, 52, 65, 66], ангедония [85, 124] тоска [8, 22], печаль, вероятность суицидальных проявлений возрастает в разы. Существует обоснованное мнение, что проявления неоправданного риска, в том числе агрессия и жестокость в подростковой среде, может быть косвенным показателем депрессии или негативных эмоциональных состояний [71].
Данные состояния при большой продолжительности и интенсивности переживаний ведут к развитию патологических изменений в организме и усугублению депрессии [22, 121]. Рисковое поведение, его последствия в виде постоянного напряжения, негативные эмоциональные состояния, могут увеличивать психологический дистресс индивида до такого уровня, что он начинает искать выход из создавшегося порочного круга посредством суицида [49, 83, 94, 121, 151]. Кроме того, часто причиной таких эмоциональных состояний выступает не только сам индивид, но поощряемые микросоциумом особые ценности и установки, которые предрасполагают к определенным дизадаптив-ным формам поведения и эмоциональным расстройствам [23, 24]. Последнее может иметь для подростков особое значение.
Социальные факторы риска.
Многие исследователи, выстраивая теоретические модели суицидального поведения, отмечают, что хотя биологические, психиатрические и психологические особенности личности выступают важными предикторами суицида, факторы социальной среды, в которой находится индивид, в наибольшей степени определяют, произойдет ли суицид или нет. При этом особое внимание уделяется таким аспектам, как социальная среда в целом, социальная группа (микросоциальное окружение) и стрессовые события жизни [63, 147, 156].
Показателями повышенного риска, согласно классическим воззрениям Дюркгейма, являются некие крайние проявления взаимоотношения индивида и социума. Слишком слабая интеграция личности в общество (в форме социальной изоляции, невовлечённости, оторванности от социума) и слишком тесная интеграция личности в общественную среду, особенно в некий специфический микросоциум, повышают риск самоубийства [1, 86, 100, 126]. Форма социальной изоляции не имеет решающего значения – это может быть и психологическое одиночество, и невовлечённость в социум, и отдельное самостоятельное проживание без достаточного количества социальных контактов, потеря члена семьи.
В последние годы активно обсуждается интерперсональная теория суицида. Она рассматривает три важнейших аспекта: 1) потерю чувства принадлежности; 2) восприятие себя как обузы для окружающих и 3) приобретенную способность (навык), характеризующийся снижением психологического порога возможности суицида. Наиболее частой причиной таких психологических состояний становится чувство одиночества как субъективного переживания, характерное для социальной изоляции или социальной отверженности индивида в различных условиях и обстоятельствах [1, 31, 44, 46-48, 98-103]. Ряд исследователей также отмечают, что если в социальной группе, к которой принадлежит индивид, имеет место история суицида или существует особое отношение к этому явлению, это повышает риск суицидального поведения [34, 131, 132]. Это весьма характерное для подростковой среды обстоятельство отчасти объясняет «заразительность» и кластеризацию суицидального поведения в подростковых субкультурах. Принадлежность к тем или иным меньшинствам, особенно сексуальным, также влияет на формирование чувства одиночества и определяется рядом исследователей как фактор риска суицида. Наконец, необходимо упомянуть доступность средств суицида, который также является фактором, провоцирующим суицидальное поведение.
Демографические факторы риска.
Основными демографическими предикторами самоубийства выступают:
-
1) принадлежность к мужскому полу , которому свойственны более высокая агрессивность, большая нацеленность суицидальных намерений на летальный исход, выбор более летальных средств для совершения суицидов;
-
2) возраст – подростковый с еще несфор-мированным понятием о смерти и крайней импульсивностью поведения, а также более старший, ассоциируемый с потерей смысло-
- жизненных ориентаций и отсутствием восприятия дальнейшего существования как положительного и перспективного;
-
3) разрыв отношений, потеря партнера;
-
4) низкий образовательный уровень, потеря социального статуса, финансовые потери, вынужденная безработица, принадлежность к низшим социальным слоям, часто сочетающаяся с алкогольной и наркотической зависимостями. Для подростков многие из перечисленных факторов риска имеют смысл как события, происходящие с их родителями, а не только с ними лично.
Таким образом, многообразие факторов, которые могут спровоцировать суицидальное поведение индивида, еще раз указывает на сложность и неоднозначность феномена суицида и вытекающую из этого значительную сложность его превенции.
Особенности подросткового возраста, рисковое поведение и суицидальность.
Несмотря на то, что ВОЗ определяет подростков как относительно здоровую возрастную группу, от 10 до 20% из них испытывают различные проблемы в сфере психического здоровья. При этом основной причиной такого рода проблем выступает депрессия, в то время как суицид, часто являющийся следствием депрессии, становится второй по распространенности причиной смерти среди подростков [10, 13, 55, 133, 153].
Как и любое сложное человеческое явление, подростковый возраст характеризуется целым рядом биологических, психологических и социальных факторов, каждый из которых вносит свою лепту в общую картину его протекания (таблица 2). Подростковый возраст – это переходное состояние, начало которого ознаменовано половым созреванием, а конец – приобретением независимости от значимых взрослых [72, 73]. При этом наблюдается парадокс – с одной стороны, подросток гораздо более силен, быстр, устойчив к заболеваниям, обладает более высокими когнитивными способностями, чем ребенок, а с другой стороны, риск смертности в этот период для подростка возрастает на 200% [78]. Несоответствие уровня биологического развития индивида его психологическому и социальному уровням, сложные задачи формирования целого ряда новых психологических и социальных характеристик, смена личностных и социальных приоритетов вызывают значительный уровень стресса. Переживаемый подростком стресс, в свою очередь, может привести к нарушениям психического здоровья. Ниже в таблице приведены эти особенности, далее подробно обсуждаемые в тексте.
Биологические особенности подросткового возраста.
Ранее считалось, что мозг подростка мало чем отличается от мозга взрослого человека. Cуществовал целый ряд нейробиологических и когнитивных гипотез, которые предполагали, что развитие человеческого существа от ребенка ко взрослому происходит линейным образом. В последние десятилетия благодаря техническим возможностям нейровизуализации детально исследованы биологические процессы, связанные с созреванием и миелинизацией мозга, и стало возможно утверждать, что бурное качественное развитие серого и белого веществ приходится как раз на подростковый возраст [72, 88, 89, 139].
Различные отделы мозга, как биологического субстрата психики индивида, созревают, согласно современным нейроанатомическим данным, неравномерно. Вначале созревают отделы, отвечающие за первичные моторные и сенсорные функции, после чего созревают отделы коры более высокого порядка, отвечающие за операции, при которых интегрируются данные функции и реализуется контроль за ними [73, 89, 139].
Таблица 2
Особенности подросткового возраста
|
Биологические |
Психологические |
Социальные |
|
|
|
Непосредственно перед началом пубертата происходит апоптоз части нейронов серого вещества, сначала в первичных сенсомоторных зонах коры, а затем в дорсолатеральной префронтальной коре и латеральной височной доле коры, что также указывает на то, что префронтальная кора головного мозга созревает одной из последних [72, 89]. Количество белого вещества, в отличие от серого, увеличивается линейным образом, и постепенная миелинизация аксонов ведет к улучшению проводимости [72, 89]. Субкортикальные структуры, а именно базальные ганглии (моторный контроль) и лимбическая система (эмоциональное реагирование) также созревают линейно и обычно до начала пубертата уже соответствуют уровню развития взрослого человека. В целом филогенетически более древние структуры созревают раньше, чем новейшие отделы коры.
Сочетание несозревшей префронтальной коры (когнитивные функции и контроль) с развитыми и порой чересчур интенсивными эмоциями ослабляют способность подростка осуществлять полноценный когнитивный контроль за своими действиями, просчитывать последствия предпринимаемых действий, адекватно, а не импульсивно реагировать в эмоционально значимых для него ситуациях [72, 88, 139]. Аналогичная динамика развития и созревания головного мозга наблюдается при исследовании обезьян и подтверждается при проведении посмертных исследований на человеческом мозге [72, 88, 139].
Помимо существенной разницы в темпе созревания различных отделов коры головного мозга, означающей целый ряд сложностей для подростка, связанных, в первую очередь, с контролем своего поведения, подростковый возраст ознаменован началом пубертатного периода. Важнейшими маркерами нейроэндо-кринологических изменений является выработка половых гормонов и гормонов стресса, прежде всего, кортизола. Половые гормоны не только отвечают за формирование вторичных половых признаков и взросление организма, но и оказывают влияние на общее функционирование мозга, в частности на развитие лимбической системы, функционирование дофаминэр-гической и серотонинэргической систем [32, 140]. Кортизол и вся система стресс-реагирования (гипоталамо - гипофизарно -кортикоидная ось), в том числе такие ее компоненты, как кортиколиберин и АКТГ, оказы- вают влияние на выраженность агрессии и вносят свой вклад в развитие депрессии [18].
Все эти механизмы выступают биологическими предикторами сложного эмоционального состояния, характерного для подростка, они в значительной мере объясняют его подверженность частой смене настроения, эмоциональной реактивности, депрессии и повышенной неконтролируемой импульсивности. Они также дают объяснение рисковому поведению, связанному как с поиском новых ощущений, так и с неэффективностью когнитивного контроля за собственными действиями, агрессивностью и повышенной тревожностью. Биологические особенности подросткового периода создают предпосылки для зависимого поведения и злоупотребления психоактивными веществами. В том, насколько вероятным будет неблагоприятное развитие, определенное значение имеют психологические и личностные особенности подростков.
Психологические особенности подросткового возраста.
Психологические особенности подростков и этапы становления личности неразрывно связаны с биологическими особенностями подросткового периода развития. Эрик Эриксон, разрабатывая свою теорию возрастной периодизации и задач каждого из возрастных периодов, выделял стадию 11 -20 лет (стадия №5) как ключевую с точки зрения формирования идентичности, отмечая, что именно в этот период индивид колеблется между формированием положительного образа «Я» и отрицательной путаницей ролей. Все, что подросток познал о себе и о мире на предыдущих этапах развития и при прохождении более ранних кризисов, должно быть переосмыслено, объединено в единое целое, в единый мировоззренческий и смысло-образующий образ, при этом пережитый прошлый опыт должен помочь спроектировать деятельность в будущем. Если индивид успешно прожил кризис идентичности и смог интегрировать весь свой предыдущий жизненный опыт, он приобретает сформированное и адекватное своим жизненным обстоятельствам чувство идентичности. Если же нет - формируется чувство спутанной идентичности, для которого характерны мучительный поиск себя, своего места в обществе и отсутствие четкой жизненной перспективы.
Таким образом, только при успешном завершении подросткового периода личность получает ответы на мучительные вопросы, до этого момента, а именно на протяжении всего подросткового периода, можно предположить, что личность страдает из-за состояния, которое Эриксон определяет как «диффузию личности». Отсюда - склонность к депрессии, подавленность и частая смена настроения, высокая эмоциональная реактивность и склонность к импульсивно-аффективному поведению, застревание в негативных эмоциональных состояниях в ситуациях значимого эмоционального события, сложный неоднозначный поиск себя и своих пределов, проявляющийся, в частности, в рискованном и девиантном поведении и т.д. Большую роль в этих сложных исканиях подростка играют интерперсональные аспекты, его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. При отсутствии адекватного контакта с взрослыми несозревшая когнитивная система и система контроля и управления собой не просто усугубляют данную ситуацию, но и выступают факторами, формирующими «туннельное» сознание, при котором подросток видит только определенные эмоционально-значимые (часто негативно окрашенные) аспекты ситуации, что порой приводит к с трудом проходящему ощущению безвыходности, безнадежности и бесполезности.
Интересно отметить, что в этот период созревает дофаминэргическая система, отвечающая за формирование мотивационной сферы и целенаправленного поведения [72, 73]. Основным показателем эффективного когнитивного развития является способность индивида подавлять приходящие случайные мысли и действия ради достижения и реализации целенаправленных мыслей и действий, особенно в условиях борьбы мотивов [72]. В отношении принципа созревания мотивационной сферы мнения исследователей расходятся - часть из них связывает его только с созреванием общих когнитивных функций префронтальной коры и увеличением скорости и эффективности общей мыслительной способности, а часть - включают как обязательный компонент процессы «подавления», проявляющиеся в контроле импульсивности и в отложенном удовольствии для достижения лучших результатов [72, 73].
Таким образом, психологические особенности подросткового возраста во многом детерминированы его биологическими особенностями и тесно связаны с формированием положительной мировоззренческой картины, но только в результате успешного прохождения данного периода. До успешного его завершения подросток подвержен многочисленным мучительным переживаниям, интенсивность которых часто превосходит его способности справляться с дистрессом. Это может привести либо к долгожданному взрослению, либо к эмоциональной надломленности, с последующими неадекватными действиями и сложными путями личностного развития.
Социальные особенности подросткового возраста.
Поскольку типичные для подростков особенности психологического реагирования и поведения можно наблюдать не только у человеческих особей, но практически у всех млекопитающих, часть исследователей выдвинула гипотезу об эволюционно обусловленной необходимости данного «переходного» возрастного периода для решения ряда определенных эволюционных задач [73, 140].
С точки зрения эволюции основная задача данного периода - приобретение необходимых навыков для относительно независимого существования, для выхода из ситуации зависимости от взрослых, семьи и ближайшего окружения [140]. Как у человека, так и у других видов, это проявляется в увеличении объема взаимоотношений со сверстниками, по сравнению с контактами с более взрослыми особями, в поиске новых ощущений и усилении консума-торного поведения, и как следствие - в более рисковом поведении [73, 140]. Хотя при этом рисковое поведение повышает шанс смертельного или иного неблагоприятного исхода (травмы, повреждения и т.д.) в эволюционном плане такое поведение в природе, особенно среди мужских особей, ведет к большему репродуктивному успеху, увеличению пространства обитания, добыче дополнительных ресурсов, большей «взрослой» свободе и к способности эффективного решения сложных ситуаций [73, 140].
Из всего описанного выше можно сделать следующие выводы:
-
1) подростковый возраст является эволюционно обусловленным процессом и предполагает решение индивидом определенных задач развития, без которых невозможно полноценное взросление и адекватное взрослое поведение;
-
2) психологические и социальные аспекты поведения и реагирования подростков детерминированы биологическими процессами, про-
- текающими в мозге и нейроэндокринной системе в данный период, и с трудом поддаются осознанному когнитивному контролю;
-
3) до успешного завершения подросткового периода подросток очень уязвим с точки зрения несоразмерности своих эмоциональных и когнитивных реакций и подвержен многим мучительным переживаниям, которые типичны для целого ряда психических расстройств и расстройств личности;
-
4) успешное прохождение данного этапа развития весьма затруднительно без сопутствующего вмешательства взрослых.
Взаимосвязь суицидального и рискового поведений у подростков.
Как следует из предыдущих разделов, рисковое поведение, с одной стороны, типично для человека, демонстрирующего те или иные аспекты суицидального поведения, а с другой – является неотъемлемым свойством формирующейся личности подростка, что позволяет выдвинуть гипотезу о том, что подростки, склонные к повышенному риску, представляют особую группу риска с точки зрения суицидальной активности [14].
Здесь возникает вопрос о том, какое собственно поведение следует считать рисковым, в чем оно заключается. Это поведение в современном обществе определяется социальными факторами. Большинство исследователей под проявлениями рискового поведения, типичного для городских подростков, понимают вождение автомобиля на высокой скорости и под действием психоактивных веществ, раннее начало сексуальной жизни без использования средств контрацепции, нелегальное использование наркотиков, хулиганство, антисоциальные проявления, частое нарушение закона, насилие и ношение оружия [66, 91, 132, 144]. При этом все исследователи сходятся во мнении, что повышенная склонность к риску обычно проявляется не в одном каком-то виде поведения, а в нескольких одновременно, т.е. негативные тенденции кластеризуются [34, 144, 150].
На сегодняшний день в литературе представлено множество теорий, объясняющих природу рискового поведения у подростков. Ряд из них акцентируют внимание на подростковом риске как форме поведения, детерминированной биологическими факторами. Так, L. Steinberg подчеркивает роль быстро развивающейся дофаминэргической системы как фактора, определяющего особенности функциони- рования социо-эмоциональной сферы подростка, в основном управляемой увеличенной потребностью получения вознаграждения [141]. В концепции B.J. Casey особое внимание уделяется диспропорциям в функциональной сформированности лимбической системы и префронтальной коры как органа высшего контроля за поведением. Тем самым подчеркивается, что склонность к риску следует отличать от импульсивности в силу принципиально различных биологических субстратов, стоящими за каждым из этих феноменов [72, 73]. E. Cauffman и соавт. (2010) связывает подверженность подростков к риску со сложным взаимодействием нейробиологических механизмов, составляющих потребности поиска новых ощущений, и еще несозревшими способностями поведенческого контроля [74]. G.S. Berns (2009) обращает внимание на то, что белое вещество коры у подростков, склонных к риску, более созревшее, чем у менее рисковых сверстников, объясняя свои находки попыткой раньше созревших подростков добиться своей автономии путем рискового поведения [53]. J.T. Bruer подчеркивает особое значение запрограммированной гибели клеток серого вещества (апоптоза) и реструктуризации синаптической архитектуры в мозге в данный возрастной период, рассматривая это как наиболее важный механизм, позволяющий регулировать и выражать эмоции и предиктор когнитивной способности к более абстрактным мыслительным операциям [69].
Однако ряд других исследователей считает биологический подход к подростковому риску является слишком односторонним. Эти авторы связывают подростковую склонность к рисковому поведению, прежде всего, с теми или иными особенностями личности. В частности, M. Zuckerman (1979) первым описал черту, названную им как «sensationseeking», связанную с постоянной потребностью в поиске разнообразных, новых и сложных впечатлений и переживаний, при котором желание подвергнуться физическому или социальному риску является следствием этой потребности. При этом биологической основой данного психологического явления выступают увеличение -уменьшение реакции на стимул, низкий уровень МАО (что повышает реактивность нейронов) и высокий уровень половых гормонов в крови. В то же время этот автор тесно связывает рисковое поведение с тревогой и подчеркивает, что в каждой конкретной ситуации факт того, предпочтет подросток риск или нет, определяется тем, уровень какого переживания в данный момент преобладает – поиска новых ощущений или тревоги [158-161]. J.J. Arnett (1992-2000) согласен с М. Zuckerman относительно его теории поиска новых ощущений и дополнительно указывает, что «бурю и натиск» подросткового и переходного возраста определяют подростковый эгоцентризм (по Пиаже) и личностная фабула, проявляющиеся в неспособности различать субъект-объект и понимать, где находятся границы собственного «Я», и начинаются границы других «Я». Он указывает на такие свойства, как восприятие себя как бы находящегося под пристальным вниманием «воображаемой аудитории», уверенность в абсолютной силе собственной мысли, отсутствие понятия непоправимости последствий своих действий и неразвитость вероятностного мышления («это может случиться с кем угодно, но не со мной») [39-41].
Целая плеяда исследователей «феномена депрессивного реализма» [33, 146] высказывали гипотезу, что подверженные депрессии индивиды в эмоционально нейтральных ситуациях демонстрируют более реалистичную оценку событий, чем индивиды, склонные к повышенной оптимистичности, вследствие их подверженности иллюзии контроля. M.T. Moore, учитывая исследования данных авторов, а также теорий A.T. Beck (зацикленность и автоматизм мышления на негативных событиях), L.Y. Abramson (переработанная теория выученной беспомощности) и ряда других, подверг серьезной критике теорию депрессивного реализма, отмечая, что депрессивные и дисфоричные пациенты, также как и оптимистично настроенные пациенты, склонны к эмоциональному предубеждению в оценке жизненных событий [30, 33, 52, 118, 146].
Интерес представляет теория, трактующая самооценку личности как предиктор риска. Самооценка (положительная или отрицательная ориентация индивида по отношению к самому себе) является непреложной частью самоидентификации личности, и связана с наличием и степенью когнитивных иллюзий индивида [76, 87, 110]. Gabbie и М. Gerrard показали в своем исследовании, что завышенная самооценка ведет к формированию иллюзии собственной уникальной неуязвимости, что в свою очередь, предрасполагает индивида к более рисковым действиям в силу того, что он не верит или не воспринимает как серьезную угрозу негативные последствия собственных действий [41, 87, 110].
В свою очередь B.J. Casey и др. исследовали особенности принятия решений в ситуациях риска у подростков и пришли к выводам, что в эмоционально нейтральных ситуациях способность подростков к адекватному и логически обоснованному принятию решений часто равнозначна аналогичной способности взрослых. Она может быть ограничена только неполным развитием когнитивных функций, и не указывает на повышенную склонность к риску. Тем не менее, попадая в значимый эмоциональный контекст, способность подростка в ситуации принятия решения использовать свой когнитивный потенциал сильно искажается и уступает место импульсивному паттерну принятия решения, часто ассоциируемому с повышенным и неоправданным риском [72, 73, 128]. Более того, специфика созревания коры головного мозга в данном возрастном периоде ставит способность подростка принимать решения в зависимость от получения награды и удовлетворения консуматорного поведения (Holm) [96].
Небольшое количество теорий настаивают, что рисковое поведение, типичное для подросткового периода – важный аспект социальной адаптации личности. В частности J.J. Arnett в своей теории подчеркивает, что поиск новых ощущений и подростковый эгоцентризм выступают всего лишь предиспозицией рискового поведения, в то время как социализация – узкая или широкая – будет определять, насколько подросток будет в это поведение вовлечен [39-41]. Таким образом, подверженность влиянию своей возрастной и социальной группы – один из самых существенных факторов, провоцирующих рисковое поведение. Присоединение к группе девиантных подростков, соответственно в дальнейшем ведет к девиантному поведению [39-41, 158-161]. S. Вoyles в подтверждение вышесказанному приводит данные о том, что наличие рядом сверстников увеличивает случаи рискового поведения от 50% до 100% в зависимости от типа рисковой активности, а в условиях их отсутствия при эмоционально нейтральной ситуации, подростки часто демонстрируют гораздо более высокую степень контроля за своим импульсивным и рисковым поведением [59]. Ряд исследований подчеркивают значимость таких факторов, как успеваемость в школе, форматы провождения свободного времени, количество времени, проведенное с членами семьи, поведение друзей. Несмотря на обилие исследований по интернет - зависимости и роли телевидения в провоцировании агрессии, вопрос влияния на рисковое поведение подростков медиасреды и интернет ресурсов до настоящего момента остается открытым [66, 133, 144].
В отечественной литературе рисковое поведение среди подростков в основном рассматривается как вариация и степень девиантного и делинквентного поведения, что соотносится с теориями, указывающими на социальную природу рисков [6, 7, 11, 12, 26, 27, 29].
Таким образом, рисковое поведение действительно выступает как многогранный феномен, в котором теснейшим образом переплетены нейробиологические, личностно - психологические, социальные и экзистенциальные факторы, сложная система взаимодействий которых не позволяет свести риск только к какой-либо одной из этих составляющих. При этом необходимо различать импульсивность и склонность к риску, как две независимые друг от друга черты личности. В то время как импульсивность становится ниже с возрастом, следуя линейному паттерну (т.е. снижается в ряду дети - подростки - взрослые), повышенная склонность к риску снижается при достижении следующей стадии развития, т.е. взрослости (иными словами склонность к риску ниже у детей и взрослых и выше у подростков). В отличие от ряда других феноменов, рисковое поведение особенно зависит от социальной группы, к которой принадлежит подросток, его социальной успешности - неуспешности, признания и принятия его членами данной группы и ближайшим социальным окружением (семья, школа).
Все это указывает на то, что подросток, склонный к рисковому поведению, помимо обычного бремени подростковых переживаний несет еще и дополнительное бремя ассоциируемых с риском факторов. Это увеличивает степень подверженности такого подростка неконструктивным моделям поведения при попадании в сложные и эмоционально значимые ситуации и является одним из дополнительных факторов риска суицида. Данное обстоятельство является основанием для более пристального внимания к таким подросткам в школах и семьях. Разумеется, рисковое поведение не является прямым указанием на суицидаль- ность, но легко наблюдаемое рисковое поведение (в отличие от обычно скрытых суицидальных тенденций, мыслей и переживаний) должно служить серьезным предупреждением.
Заключение.
Все вышесказанное позволяет предположить, что подростки, демонстрирующие склонность к рисковому поведению - особая группа риска, когда речь заходит о возможной суицидальной активности. Даже вполне здоровый и благополучный подросток, чье нестабильное эмоциональное состояние обусловлено естественными биологическими, психологическими и социальными факторами, подвержен в этот период расстройствам настроения, депрессии и импульсивности в принятии решений, что может стимулировать начало суицидальной активности на уровне суицидальных мыслей. У склонного к риску подростка все это переживается еще более остро, уровень эмоциональной реактивности его еще более высок, а контроль за своими действиями еще более низок, что может усилить суицидальную активность и ускорить переход от стадии суицидальных мыслей к стадии планирования и совершения суицида.
Табуированность темы суицида в обществе лишь усугубляет ситуацию, т.к. подросток, который испытывает суицидальные переживания или уже суицидально активен (высказывал намерения, совершил попытку), не может ни получить достоверную информацию о причинах своих мыслей, ни обсудить волнующие его вопросы со специалистом. В контексте того, что в данном возрасте наблюдается тенденция переживать порой негативный образ себя, такого рода мысли лишь усиливают уверенность подростка в собственной никчемности, бесполезности своего существования, восприятию себя как обузы для окружающих и т.д. Естественно предположить, что для более импульсивных и склонных к риску подростков, особенно под воздействием психоактивных веществ и под влиянием своей социальной группы, шанс перейти от мыслей к реализации суицида повышается.
Учитывая многообразие нейробиологиче-ских механизмов, обуславливающих психологические реакции как здорового, так и более склонного к риску подростка, можно предположить, что подросток не может в полной мере и осознанно управлять своим внутренним состоянием. Для выработки более конструктивных копинг-стратегий ему необходимо участие взрослых, причем не только из состава собственной семьи, но и из более широкой социальной среды – школа, центры досуга, спортивные сообщества и т.д. Отсюда следует вывод, что способность взрослых распознать признаки потенциальной или начинающейся суицидальной активности на раннем этапе может действительно помочь предотвратить трагедию впоследствии. Мы полагаем, что разработка всеохватывающей системы работы с подростками в целом, а не только с отдельными группами риска, информированность на всех уровнях социального взаимодействия и налаженная система предоставления адекватной и своевременной психо-социальной помощи может изменить тревожную статистику суицидальной активности, прогнозируемую на ближайшие десятилетия.