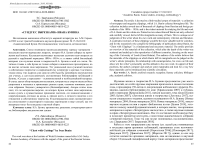"Сундук с вырезками" Ивана Бунина
Автор: Закружная Зоя Сергеевна, Коростелев Олег Анатольевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 1 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена малоисследованному корпусу материалов - коллекции газетно-журнальных вырезок, которую И.А. Бунин собирал на протяжении всей жизни. Коллекция насчитывает несколько десятков тысяч вырезок из русской и зарубежной периодики 1890-х-1950-х гг. и являет собой богатейший материал для изучения жизни и творчества И.А. Бунина и всей его эпохи. Печатные отзывы о себе Бунин не только собирал и внимательно просматривал, но на многих оставлял свои маргиналии. Это уникальный свод суждений писателя о собственном творчестве и современной ему литературе и критике. Систематическая опись этих вырезок уже сама по себе была бы ценнейшим инструментом для ученых, а для исследователей, составляющих библиографию публикаций о Бунине, «Сундук с вырезками» - основоположный и необходимейший материал. В статье дается обзор материалов коллекции, которая после смерти писателя была разрознена и оказалась в хранилищах разных стран, основное внимание уделяется собранию Лидского университета (Великобритания). Авторы статьи полагают, что по материалам вырезок, на которых Бунин оставил свои маргиналии, можно судить о художественных принципах писателя, его взаимоотношениях с современниками, взглядах на жизнь и, прежде всего, о личности писателя и его отношении к собственному творчеству. В подтверждение своих положений авторы сопоставляют и анализируют отдельные маргиналии и ищут способ, как эти материалы могут быть введены в научный оборот.
И.а. бунин, архивистика, рецепция, литературная критика, библиография, академическая эдиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149127143
IDR: 149127143 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00003
Текст научной статьи "Сундук с вырезками" Ивана Бунина
Изучение жизни и творчества И.А. Бунина продолжается уже много десятилетий, но особо крупные свершения произошли в самые последние годы, в преддверии 150-летия со дня рождения нобелевского лауреата. Появилась наконец библиография его книг [Кржесалкова 2007] и публикаций в периодике [Кржесалкова 2011], начали выходить тома писем [Бунин 2003; Бунин 2007], «Летописи жизни и творчества» [Летопись 2017], выпуски специального издания, целиком посвященного И.А. Бунину [Новые материалы 2004; Новые материалы 2010; Новые материалы 2014], вышло научное издание поэзии в серии «Библиотека поэта» [Бунин 2014], готовится к выходу новый фундаментальный, в четырех книгах, том архивных материалов в серии «Литературное наследство», а также научные издания в серии «Литературные памятники». Все это составляет необходимую базу и позволяет предметно вести речь о подготовке академического собрания сочинений писателя. Тема эта уже не раз поднималась исследователями, см.: [Закружная 2017; Закружная 2018].
Работа в этом направлении уже начата (см. целый ряд появившихся в последнее время архивных публикаций, призванных стать Источниковой базой для собрания сочинений: [Коростелев 2016]; [Пономарев 2017]; [Бакунцев 2017]; [Двинятина 2017]; [Морозов 2017]), однако до сих пор остается множество архивных материалов, еще не введенных в научный оборот. Отдельный специфический корпус таких материалов представляет собой «Сундук с вырезками».
И.А. Бунин внимательно следил за печатными отзывами о себе и своем творчестве, и в эмиграции вновь, как и в свое время в России, заказал агентствам подписку на просмотр прессы и присылку вырезок. Помимо того, ему нередко присылали опубликованные статьи и заметки друзья, коллеги, критики, читатели. Свою коллекцию Бунин хранил в отдельном сундуке, так и называя его «сундук с вырезками».
В целом бунинская коллекция насчитывает несколько десятков тысяч вырезок из русской и зарубежной газетно-журнальной периодики 1890-x-l950-х гг. Разбиравшая архив Бунина Т.П. Алексинская писала: «Очень обширен в архиве отдел иностранной прессы со статьями о творчестве Бунина. Он один занимает семь больших папок. Стихи и проза Ивана Алексеевича переведены на 19 языков, включая эсперанто, еврейский, турецкий и китайский <...> Весь же архив в целом - ключ к пониманию Бунина и свидетельство удивительного общения между писателем-творцом и теми, для кого он пишет. Большая культурная сокровищница» [Алексинская 1953, 135].
Коллекция впрямь являет собой богатейший материал для изучения жизни и творчества И.А. Бунина и всей его эпохи. Здесь представлены едва ли не все возможные жанры: статьи, рецензии, интервью, заметки разнообразного содержания. Тут и хроника, и рецепция во всех мельчайших нюансах, и материал для оценки критики, журналистики, печатных изданий. По отношению к Бунину можно судить об эволюции умонастроений критиков, направления печатных изданий, добавлять дополнительные штрихи к литературной ситуации разных периодов и вносить коррективы в установившиеся мнения.
Систематическая опись этих вырезок уже сама по себе была бы ценнейшим инструментом для исследователей. А для исследователей, составляющих библиографию публикаций о Бунине, «сундук с вырезками» - основоположный и необходимейший материал. Библиография публикаций самого Бунина все же увидела свет стараниями чешских ученых, а библиография публикаций о нем пока что существует только в самом предварительном наброске, составители которого сразу оговорились: «Предлагаемый библиографический свод вынужденно не полон <...> носит выборочный, фрагментарный характер» [Pro et contra 2001, 847]. Эта работа должна быть продолжена в первую очередь, поскольку необходимость более полной библиографии очень велика.
Однако «сундук» важен не только в плане библиографии.
Печатные отзывы Бунин внимательно просматривал, а порой перечитывал и на многих оставил на полях свои замечания, комментируя те или иные оценки собственных произведений, соглашаясь или споря с авторами. Это уникальный свод суждений писателя о собственном творчестве и современной ему критике и литературе, тем более ценный, что Бунин о своих произведениях отзывался не часто. По свидетельству современника: «Бунин разговоров об источниках своего творчества не переносил, считая их чуть ли не бестактностью, залезанием в его душу» [Бахрах 1979, 117]. Но в маргиналиях на газетных вырезках он зачастую раскрывался и высказывал свои мнения и суждения, не оглядываясь на редакторов или цензуру и не делая скидку на возможного читателя.
Весь этот материал должен быть введен в научный оборот, и такая работа ведется. Сложность в том, что он разрознен. После смерти Бунина коллекция вырезок, как и весь архив писателя, оказалась разделена на несколько частей и ныне находится в нескольких хранилищах разных стран: наибольшая часть в Русском архиве Лидского университета (Leeds, Great Britain), значительные части в РГАЛИ и ОР ИМЛИ РАН (Москва), а также в Орловском государственном объединенном литературном музее им. Тургенева (Орел).
Часть вырезок с маргиналиями Бунина хранится в отделе рукописей ИМЛИ им. А.М. Горького РАН в фонде № 3 («Иван Алексеевич Бунин»), Здесь находятся статьи, заметки, рецензии и отзывы о Бунине из французской прессы (Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 43-95), статьи, отзывы и рецензии о Бунине из английской и американской печати (Ф. 3. Оп. 4а. Ед. хр. 1-12). Также в архиве имеются вырезки из немецкой прессы о Бунине (Ф. 3. Оп. 5. Ед. хр. 31-70), однако без маргиналий писателя.
Еще часть отложилась в РГАЛИ в фонде № 44 («Бунин Иван Алексеевич»), см. раздел «Материалы о И.А. Бунине» (Ф. 44. Оп. 2. Ед. хр. 142— 148). Некоторые статьи доступны в электронном виде на сайте РГАЛИ «Объединенный электронный архив Бунина» в разделе «Вырезки из газет и журналов».
Но большая часть материалов из «сундука с вырезками» И.А. Бунина хранится в Русском архиве Лидского университета (Leeds, Great Britain). Эти материалы не раз цитировались благодаря любезности куратора архива Ричарда Дэвиса, предоставляющего к ним доступ исследователям, но ни разу не становились даже предметом обзора, не говоря уже о полноценной публикации. Настоящая статья как раз и представляет собой первую попытку такого обзора.
Коллекция Лидского университета содержит более полутора тысяч единиц хранения, десять коробок вырезок (РАЛ. MS 1066/7988-9568), которые охватывают почти вековой период - с 1903 по 1997 гг. (кураторы архива продолжали ее пополнять и после того, как бумаги Бунина попали в Лидс, но основное ядро коллекции составляют материалы «сундука с вырезками»; разумеется, маргиналии писателя содержатся только на прижизненных изданиях). Коллекция включает в себя вырезки из газет и журналов как дореволюционной России, так и России советской, вырезки из периодических изданий Русского Зарубежья, а также огромный пласт вырезок из иностранной периодики - не только европейской, но также американской, японской и др. Соответственно, и спектр языков, на которых написаны материалы, необычайно широк: от русского, французского, английского, немецкого, итальянского, португальского и испанского до голландского, шведского, чешского, хорватского, венгерского, сербского и даже японского и идиш.
Существенные коллекции вырезок, касающихся И.А. Бунина, сохранились также в других фондах, например, в личных бумагах Г.П. Струве, находящихся ныне в Гуверовском архиве (Hoover Institution Archives. Gleb Struve Papers. Box 47. Folder 2-14), или в личном архиве П.Н. Милюкова, попавшем в Русский заграничный исторический архив (ныне: ГАРФ. Ф. Р-5856. Он. 1. Д. 595); последняя коллекция вырезок (более 150 единиц) описана, библиография напечатана в приложении к публикации: [Бакун-цев 2016]. Но они не содержат маргиналий И.А. Бунина, собирались не им и не могут быть отнесены к «сундуку с вырезками», хотя могут помочь при описании и атрибуции.
Коллекция, разошедшаяся по архивам разных стран, физически уже не может быть воссоединена, но в этом и нет большой необходимости. Воссоздать «сундук с вырезками» можно и в виде библиографии, если опубликовать ее, атрибутировав вырезки и воспроизведя маргиналии И.А. Бунина. Еще более соблазнительно оцифровать все эти материалы и разместить на сайте в открытом доступе, предоставляя всем интересующимся возможность знакомиться с полнотекстовыми версиями вырезок и маргиналиями на них в том виде, в каком они сохранились в архивах.
К сожалению, даже сохранившиеся вырезки дошли до нас не в самом лучшем виде, зачастую это фрагменты газетных полос без названия и подписи, атрибуция нередко превращается в нелегкую задачу, а в некоторых случаях практически невозможна.
Маргиналии Бунина на вырезках очень разнообразны: от исправления опечаток и неточно приведенных цитат до концептуальных рассуждений. Немало поправок и уточнений фактического характера: Бунин подчеркивает упоминание польской газеты о том, что он родился в Варшаве, подпись к фотографии «И.А. Бунин у себя дома» сопровождает ремаркой: «Нет, это кабинет Чехова» (РАЛ. MS 1066/7988), а фоторепортаж в «Иллюстрированной России» снабжает пометой: «Мы жили тогда на rue Любек» (РАЛ. MS 1066/8119).
Еще чаще возмущение Бунина вызывают неудачные сравнения критиков и поспешные суждения о влияниях и заимствованиях. Василий Бутенко в статье заявляет: «Бунин последовательно перешел через влияние Некрасова и Никитина», это наблюдение сопровождается ремаркой: «Какой вздор» (РАЛ. MS 1066/8683). Марк Слоним начинает статью с констатации: «Бунин - наследник Тургенева», к ней в разное время (разными чернилами) сделано три ремарки, из которых самая мягкая: «О, идиот!» (РАЛ. MS 1066/8604). Косноязычные откровения С. Темирова: «Его стихи стоят на уровне подлинного мастерства, но Бунин в поэзии уже давно сказал свое слово» сопровождены лаконичным заключением: «Болван» (РАЛ. MS 1066/8707).
ЭРКА в статье «Опоздавший на поезд» (Красная газета. 1926. 3 ноября) упрекает Бунина в архаичности и несовременности революционной эпохе, а в качестве примера приводит стихотворение «Кружево», Бунин скромно помечает на полях: «Это написано в 1901 г.!». И только когда автор заявляет, что стихотворение Бунина написано «под Городецкого», не выдерживает: «Ох, идиот!» (РАЛ. MS 1066/8107).
В той же «Красной газете» (1926. 19 декабря) появилась заметка «Советская печать о “Митиной любви”», автор которой категорически заявил: «Наш советский читатель пройдет мимо повести Ив. Бунина - она его не тронет». Реакция Бунина: «А зачем же вы, е.в.м., издали ее в Москве (без моего ведома и спроса)?» (РАЛ. MS 1066/8125).
Опубликованный в «Русских новостях» от 15 октября 1948 г. текст собственного интервью Бунин испещрил возмущенными ремарками: «Этого я не говорил!», «Все выдумал», «Очень глупо!», «Свинья!», «Дурацкая брехня» (РАЛ. MS 1066/8614).
Разумеется, некоторые записи сделаны в сердцах и больше говорят о характере Бунина. Но при всей запальчивости Бунина и резкости многих маргиналий нельзя сказать, чтобы высказывания критиков совсем никак не воздействовали на него. ГВ. Адамович в статье «Лица и книги» написал: «Кто-то очень остро и зло заметил о Бунине: “не кончил консерватории”» [Адамович 1933, 325]. Бунин откликнулся на полях: «Брехня. Никто обо мне этого не говорил. Это о Куприне - и это есть в моей статье о нем» (РАЛ. MS 1066/8225). Действительно, в статье Бунина «Перечитывая Куприна» есть строки: «Читаешь о нем и сейчас то же самое: <...> то, что он “не кончил консерватории”, как говорили символисты о бытовиках» [Бунин 1938, 310-311]. Однако статья Адамовича опубликована в 1933 г, а статья Бунина пятью годами позже. Видимо, Бунин, делая свою запись на полях уже после войны, просто забыл о том, как все разворачивалось на самом деле. А тогда, осенью 1933 г, вскоре после публикации первой статьи, Бунин не без смущения написал Алданову: «Адамович врет, будто кто-то сказал, что я “не кончил консерватории”, но по-хорошему “консерватории” я и правда не кончил» [Коростелев 1993, 7].
Многие из маргиналий - ценнейшие свидетельства, проясняющие позицию Бунина по целому ряду вопросов, прежде всего его взгляды на литературу и литературную критику. Это может послужить материалом для цикла статей об отношении Бунина к критике, как дореволюционной, так и советской, и эмигрантской.
Бросается в глаза негативное отношение Бунина к советской критике, и вряд ли этому приходится удивляться, советская критика 1920-х-1930-х гг. часто провоцировала такое отношение своей бесцеремонностью, грубостью и невежеством.
К критике эмигрантской у Бунина другое отношение. Претензий и здесь предостаточно, но общий тон уже другой. Восклицания на полях при малейшем несогласии с высказываниями критика у Бунина и тут не менее эмоциональны, однако это не перерастает во враждебность и остается в рамках литературной полемики. К критикам иностранным отношение еще мягче, похоже, Бунин считает, что они не могут знать и понимать многих нюансов, а стало быть, с них и спрос иной.
Больше всего среди маргиналий Бунина не записей, а подчеркиваний, значков и помет на полях, не превращающихся в словесные заключения, однако тоже о многом говорящих. По ним можно судить о его художественных принципах, взаимоотношениях с современниками, взглядах на жизнь и прежде всего о личности писателя и его отношении к собственному творчеству При внимательном изучении помет и подчеркиваний можно составить представление или дополнить и уточнить многое в воззрениях Бунина на волновавшие его вопросы, в том числе и на те, о которых он не высказывался открыто.
Каким образом включить все это в собрание сочинений, вопрос непростой. Вот лишь один пример. В Лидской коллекции хранится вырезка статьи Ф.А. Степуна «Литературные заметки (“Тонкий и чуткий г-н Во-ронский”)» из «Современных записок» за 1925 г. (РАЛ. MS 1066/8085, вырезка атрибутирована: [Степун 1925, 313-329]), содержащая множество помет и маргиналий И. А. Бунина.
В статье Ф.А. Степун полемизирует с А.К. Воронским по поводу попутчиков, современных советских и эмигрантских писателей, послереволюционного развития русской литературы, а также по поводу «Митиной любви» И.А. Бунина - в контексте вышеперечисленных тем. Для буни-новедения эта вырезка интересна не столько отзывами Ф.А. Степуна и А.К. Воронского о «Митиной любви», сколько многочисленными пометами и маргиналиями самого Бунина на ней. Очевидно, статья представляла особый интерес и для писателя, поскольку к этой вырезке Бунин возвращался как минимум дважды - пометы сделаны в два слоя: первый - карандашом, второй (более поздний) - красной ручкой.
Отдельные высказывания Ф.А. Степуна И.А. Бунин отмечает на полях, некоторые строки подчеркивает в тексте, и эти пометы позволяют судить о представлениях и взглядах самого Бунина на русскую революцию и на развитие послереволюционной литературы.
И.А. Бунин отметил на полях фразу Ф.А. Степуна «<...> в революции есть стихия трагического безумия, от которой пойдет все живое и значительное в новом, пореволюционном искусстве...» (РАЛ. MS 1066/8085), равно как и следующее высказывание: «<.. > все живое и существенное в советской литературе связано не с положительным советским строительством, не с идеологией коммунизма, а с трагическим и стихийным безумием революции <...>» (РАЛ. MS 1066/8085; здесь и далее подчеркивания И.А. Бунина - карандашом, если не оговорено иное). И.А. Бунину, невидимому оказалось близким представление о революции как о стихии, безумном хаосе, высказанное и в другом фрагменте статьи: «Советское искусство <.. > все более будет тянуться к той единственно большой теме, которая сейчас ждет своего писателя, к теме революционного хаоса : безумия, страдания и смерти и тем самым, конечно, и к теме рождения из всего этого испытания нового духовного человека, новой духовной России» (РАЛ. MS 1066/8085; здесь и далее курсивом выделены строки, отчеркнутые И.А. Буниным на полях - карандашом, если не оговорено иное).
Пометы И.А. Бунина - дополнительный штрих к его взглядам на взаимодействие «новой» России с Россией «старой». Далее он отчеркивает на полях и подчеркивает в тексте рассуждение: «<...> коммунизм <...> свя-зует своих приверженцев друг с другом не прямо и непосредственно через любовь к новой жизни, а отрицательно, через акт обязательной ненависти к старой . Не будь в коммунизме этой ненависти, он остался бы в России гласом вопиющим в пустыне. Только через свою ненависть к старой России связан он с новой и только благодаря тому, что старая Россия, несмотря на все свои грехи и падения, была все-же подлинною духовною реальностью, светила отраженным светом идейности и болъшевицкая революция против нея» (РАЛ. MS 1066/8085). Окончание этого рассуждения И.А. Бунин отчеркнул на полях, добавив восклицательный знак: «Это значит, что духовно реальна была в революции только расплата России за свои грехи, или расплата русских людей за свои грехи перед Россией » (РАЛ. MS 1066/8085).
В статье Ф.А. Степун полемизирует с А.К. Воронским по поводу «Митиной любви». Маргиналии Бунина проясняют не только его отношение к высказываниям современников, находящихся «по разные стороны баррикад», но и его представления о задачах и функциях литературы в целом:
«Упрекая Бунина в том, что “ему не о чем писать” [минус на полях], утверждая, что его “Митина любовь” - “безусловный провал" [минус на полях], так как она чужда эпохе , г-н Воронский либерально замечает, что дело не в том, что в “Митиной любви” изображены “времена давно прошедшие” и что “она не имеет отношения к революции”, а в том, что роман Бунина “несозвучен ни сегодняшнему, ни завтрашнему дню - и завтрашнему больше чем сегодняшнему ” [двойное отчеркивание на полях]. Но почему бы “Митиной любви” быть уже так несозвучной завтрашнему дню, когда все ее звучание о вечной красоте природы и о столь же вечной трагедии любви? Или советский критик действительно думает, что коммунистическая революция уничтожит в будущем и природу, как красоту, и любовь, как трагедию [подчеркивание ручкой]. Если таковы его тайные мысли о гигантском коммунистическом строительстве, то стоит ли ему вообще говорить о несозвучии завтрашнему дню “Митиной любви”. Не проще ли тогда говорить оптом о несозвучии завтрашнему дню не только всей большой русской литературы, но и всей литературы вообще?» (РАЛ. MS 1066/8085; весь текст отчеркнут на полях ручкой).
Из данного фрагмента вполне можно сделать вывод не только о высокой оценке самим И.А. Буниным «Митиной любви» и о согласии со Степу-ном в определении сути произведения, но и - самое главное - о представлении Бунина о литературе как искусстве, говорящем о вечном, непреходящем, не зависящем от времени (сегодняшнего или завтрашнего дня) - о любви, красоте, природе, трагедии.
Бунин и здесь отпускает несколько реплик, но довольно миролюбивых. Все возражения Воронскому фиксируются лишь в подчеркиваниях на полях цитат, несогласие со Степуном выражается не в эмоциональных оценках, а в иронических вопросах.
На полях статьи самого А.К. Воронского (РАЛ. MS 1066/8088; вырезка атрибутирована: [Воронский 1925, 18-22]), несмотря на высокую оценку собственного творчества, Бунин оставляет маргиналии совсем другого рода. Воронский, отзываясь о книге «Роза Иерихона», безоговорочно ставит Бунина на первое место в эмигрантской литературе, однако для Воронского эмигранты откровенные враги, а главное, и литература эта, и сама эмиграция - «обитель мертвых»: «У Бунина звучит только тишина, она реальнее звуков. Есть что-то дремотное, могильное, холодное, беззвучное в этом восприятии и в этом видении мира. Иногда поэту чудится, что он и сам не живет » (РАЛ. MS 1066/8088). Фраза отчеркнута на полях и добавлено лаконичное: «Идиот!».
Степун такого раздражения у Бунина не вызывает, даже если совпадает с Воронским в каких-то мнениях. В частности, Степун убежден, что молодому писателю «в атмосфере эмигрантского безбытничества <...> никогда не стать достойным наследником великого русского искусства» (РАЛ. MS 1066/8085). Бунин на полях иронично, но не без горечи, написал: «А Есенин, Бабель станет?».
Идею «нового искусства», вырастающего в «новой России», Бунин категорически не разделял. Однако, несмотря на то, что в этом вопросе позиция Ф.А. Степуна была близка к постулатам Воронского, Бунин оставляет на полях лишь риторические вопросы, без возмущения или резкого неприятия. Степун писал: «Будущая же Россия растет сейчас конечно не в эмиграции, а в России; и в ней, и с ней, с этою новою Россией растет сейчас и новое русское искусство» (РАЛ. MS 1066/8085). На полях возле подчеркнутых слов саркастическая ремарка: «И любовь, и пол будут новые?».
Соглашаясь со Степуном в том, что предметом литературы является вечное, непреходящее, Бунин явно не разделяет его представлений о перспективах развития русской литературы и по-своему смотрит на взаимоотношения писателя со своим временем: «Конкретность искусства и требует от всякого художника кровной связи со своим временем, со своим народом, с вполне определенным укладом жизни. У Бунина эта связь налицо. Каждая его строчка есть кровь от крови и плоть от плоти его России. Оттого, быть может, так и совершенно его искусство, что оно искусство уже совершившего свой жизненный путь времени; оттого, быть может, и так трепетно живо оно сейчас для нас, что трепещет о том, что уже отошло ...» (РАЛ. MS 1066/8085). На полях возле подчеркнутых слов Бунин оставляет запись: «Завтра изменится?». У Бунина собственные представления на этот счет, в его мире и его творчестве вечные темы и ценности носят куда более долгосрочный неизменный характер, куда менее зависят от времени и обстоятельств.
Воспроизведение одних только высказываний на полях без учета других помет не передает всех нюансов. До конца их смысл раскрывается только во всей полноте контекста. Соответственно, главная задача, стоя- щая перед исследователями, - найти способ подготовить к публикации в наиболее лапидарной форме этот особый корпус наследия писателя, сохранив все оттенки мысли. «Сундук с вырезками» должен быть полноценно введен в научный оборот и занять свое место в собрании сочинений.
Список литературы "Сундук с вырезками" Ивана Бунина
- 40 лет назад скончался Иван Бунин / А 60 лет назад он стал нобелевским лауреатом [4 письма И.А. Бунина М.А. Алданову 1933 г.] / публ. О.А. Коростелева // Независимая газета. 1993. 9 ноября. № 214 (638). С. 7.
- Адамович Г. Лица и книги. 1. Бунин // Современные записки. 1933. № 53. С. 324-334.
- Алексинская Т.И. Разбирая архив И.А. Бунина // Грани. 1953. № 18. С. 134- 137.
- Бакунцев А.В. Иван Бунин - несостоявшийся редактор газеты «Южное обозрение» // Литературный факт. 2017. № 4. С. 121-142.
- Бахрах А. Бунин в халате. По памяти, по записям. Bayville, New Jersey, 1979.
- Воронский А. Вне жизни и вне времени (Русская зарубежная художественная литература) // Прожектор. 1925. 15 июля. № 13. С. 18-22.
- Двинятина Т.М. Нобелевский год И.А. Бунина (По материалам дневников и семейной переписки) // Литературный факт. 2017. № 4. С. 143-161.
- Закружная З.С. Академический Бунин. Текстологические проблемы подготовки научного собрания сочинений // Studia Litterarum. 2017. Т. 2. № 4. С. 394- 404.
- Закружная З.С., Коростелев О.А., Фролов М.А. Записи и выписки И.А. Бунина для академического собрания сочинений // Вестник архивиста. 2018. № 1. С. 65-73.
- «Знаем, что на подъем Вы не очень легки...»: письма П.Н. Милюкова к И.А. Бунину, 1921-1937 гг. / публ., подгот. текста, вступит. ст. и коммент. А.В. Бакунцева // Ежегодник Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. М., 2016. С. 376-405.
- Коростелев О.А. «Вести из Пасси»: рукописная газета В.Н. Буниной // Литературный факт. 2016. № 1-2. С. 348-369.
- Морозов С.Н. История подготовки Собрания сочинений И.А. Бунина в издательстве «Петрополис» (по материалам переписки) // Литературный факт. 2017. № 5. С. 248-265.
- Степун Ф.А. Литературные заметки («Тонкий и чуткий г-н Воронский») // Современные записки. 1925. № 26. С. 313-329.